
Предваряя дальнейшее изложение, следует сказать несколько слов об истории возникновения и научного употребления термина «социальный интеллект». В 1920 году американский психолог Эдвард Торндайк опубликовал небольшую статью под заголовком «Интеллект и его использование», в которой он выделил несколько видов человеческого интеллекта — абстрактный, практический и социальный; последний из них определялся Торндайком как способность действовать мудро в межличностном общении. Спустя несколько десятилетий, в 1960-х годах, Гилфорд несколько расширил его классификации, а кроме этого были осуществлены попытки измерить уровень социального интеллекта (в частности, тесты Салливен). Таким образом, под аббревиатурой «социальный интеллект» психологи, как правило, понимают способность человека понимать поведение окружающих (их мотивы, цели и задачи) и его умение взаимодействовать с другими людьми, которыми конкретные личности, разумеется, наделены далеко не в равной степени. По мнению психологов, социальный интеллект индивида формируется в процессе его социализации под воздействием культуры, образования, воспитания и множества других причин (Об истории изучения социального интеллекта психологами см. Фрэнк Лэнди; 2005).
Что касается представителей прочих общественных дисциплин (этологов, социальных психологов и философов), то употребление ими термина «социальный интеллект» в настоящее время носит произвольный и спорадический характер. В отдельных случаях под ним подразумеваются: навыки социального взаимодействия индивидов, способность общества решать важнейшие социальные проблемы (голода, эпидемий, войн, экологии), разумность, целесообразность и контроль происходящих социальных процессов, а иногда некое «коллективное сознание» независящее от воли и сознания конкретного индивида.
Раздел I. О социальном интеллекте
Существует достаточно много различных научных трактовок человеческого интеллекта. В общем случае, под ним подразумевается некая общая умственная способность, благодаря которой человек в состоянии познавать окружающий мир, понимать суть вещей, делать заключения, планировать свою деятельность, решать стоящие перед ним проблемы, абстрактно мыслить, создавать и понимать сложные идеи (см. Л. Готтфредсон. Мейнстрим науки о интеллекте. 1994).
Здесь, вероятно, следует особо отметить, что понятие интеллекта и его научное использование довольно часто наталкиваются на разного рода необоснованные возражения. Чтобы развенчать подобного рода предубежденность, будет уместно процитировать Айзенка: «Интеллект больше, чем какое-либо другое научное понятие в психологии оказался объектом споров, критики и неприятия. Последние в значительной мере носят философский характер и, таким образом, не особенно влияют на работу экспериментатора. Часто декларируется, что интеллект — нечто несущественное, и поэтому любые попытки его измерить беспредметны. Однако говорить так — значит не понимать самой природы науки. Мы вовсе не стремимся придать материальность и в равной мере не утверждаем, что он «существует» в том же смысле, что и любой объект нашего окружения. Интеллект — научное понятие, такое же, как гравитация, эфир, электричество, химические связи, — все они не «существуют» в этом смысле, что, однако, не делает их менее ценными в качестве научных концепций» (Г. Айзенк. Понятие и определение интеллекта. 1986).
Не подлежит сомнению, что интеллект человека может применяться им для решения широкого круг жизненных задач: для обустройства домашнего очага, разрешения поставленных перед ним руководством профессиональных задач и многих других. Нас же здесь, естественно, интересует его практическое употребление в сфере регулирования социальных взаимоотношений между людьми. А так как подобного рода отношения, как было уже сказано, регламентируются различного рода социальными системами (моралью, законами, корпоративной этикой и так далее), то они, в сущности, суть порождение и отражение социального интеллекта индивидов, образующих общество, чья деятельность упорядочивается благодаря совокупности этих систем.
Далее, очевидно, что уровни социальных интеллектов конкретных индивидов внутри того или иного сообщества (обыкновенно, нации) несколько различаются, прежде всего, ввиду различия сфер их профессиональной деятельности. Интеллектуальные способности, скажем, сельскохозяйственных или промышленных рабочих, в среднем, ниже, чем аналогичные способности у мелких коммерсантов, а у последних, в свою очередь, ниже, нежели у лиц занятых юридической практикой. Эти различия приводят к некоторым особенностям социальных систем (нравственной и корпоративной этике) свойственных конкретным социальным группам. Вместе с тем не подлежит сомнению, что нравственные системы этих групп имеют множество общих элементов, так как члены различных групп и профессиональных сообществ, населяя одну страну и часто общаясь меду собой (обмениваясь продуктами труда и так далее), неизбежно вырабатывают общие правила проживания или, как сказал бы Ницше, «общий язык добра и зла» (Ф. Ницше. Так говорил Заратустра).
Конечно, научное употребление любого термина, в том числе и словосочетания «социальный интеллект» непосредственно зависит от области и предмета исследования, а также от конкретных задач последнего. Ясно, что психологи преимущественно будут акцентировать свое внимание на межличностных взаимоотношениях индивидов и на психических особенностях личности, дающих той преимущества или, напротив, отягощающих ее жизнь в обществе. Между тем, в социальной философии и социологической науке наиболее продуктивным будет именно описанное мною здесь понимание данного термина — как способности создавать разнообразные, писанные и негласные системы социальных норм и правил, призванных упорядочить и облегчить жизнь индивидов, сделать ее более безопасной и комфортной. Прочие же трактовки, время от времени используемые в этих отраслях человеческого знания, такие как способность общества решать наиболее насущные проблемы и вызовы, качество и рациональность социальных процессов или способность общества к усвоению и использованию имеющейся совокупности знаний в целях его развития, по сути, более удаленные и специфичные, а потому и неизбежно и более размытые отражения и последствия деятельности социального интеллекта.
Предложенная мною трактовка социального интеллекта, как мы это вскоре увидим, поможет объяснить и подробно описать механизм воспроизводства отдельных особых культур. И, тем самым, во-первых, прояснить природу и причины возникновения культурных феноменов у конкретных народов. А, во-вторых, понять, почему сходные культурные явления вновь и вновь через столетия и тысячелетия появляются в разных частях мира у несвязанных общей историей и предками народов, в то время как у других народов, имеющих общее происхождение, со временем усиливается дифференциация культурной и общественной жизни.
Раздел II. Об уровне социального интеллекта и его устойчивости во времени и пространстве
Несомненно, как у живущих в прошлом, так и у нынешних народов существуют значительные отличия в способности создавать разного рода социальные системы, регламентирующие жизнь и социальное поведение, как правило, довольно эгоистически настроенных индивидуумов. Существует прямая связь между уровнем социального интеллекта нации и качеством, сложность и рационализмом ее социальных систем.
Проще говоря, чем выше уровень социального интеллекта, тем более развиты ее социальные системы и, наоборот, чем он ниже, тем более примитивными, плохо структурированными, более неопределенными (и, соответственно, менее эффективными), регламентирующими социальную жизнь системами она будет обладать. Если население какой-либо страны в своем большинстве имеет ограниченный круг жизненных целей, что является обычным явлением для жителей слаборазвитых стран (примитивизм потребностей); если ее члены не способны посмотреть на себя глазами друг друга, представить себя на месте другого, определить стратегию собственного поведения, учитывая все многообразие альтернатив последнего; если оно не понимает жизненных планов, помыслов и поступков окружающих, иными словами, мало способно к социальному воображению и мышлению, то: оно оказывается неспособным и создавать совершенные и облегчающие жизнь социальные институты, к примеру, морали. В обратном случае, когда население наделено всеми перечисленными качествами, оно в состоянии создавать развитые и адекватные социальной среде институты.
Взять ту же систему общественной морали. У наций с более высоким уровнем социального интеллекта она будет характеризоваться такими качествами, как охват большого количества людей, универсальностью и многочисленностью норм и правил поведения. В свою очередь, у наций обладающих низким уровнем социального интеллекта ее охват будет гораздо ниже, а действие, скорее всего, будет распространяться только на членов семьи или клана (явление, которое Эдвард Бэнфилд окрестил «аморальный фамилизм»), а универсальность применения норм будет крайне низкой (применение по желанию, по ситуации, что можно назвать «избирательной моралью»).
Что касается причин, которые определяют постоянство или устойчивость социального интеллекта нации во времени и пространстве, то их всего две. Унификация социальных интеллектов индивидуумов внутри одного поколения, вследствие необходимости придерживаться одинаковых действующих в обществе регуляторных систем. И передача конкретного уровня социального интеллекта от одного поколения к последующему посредством качества и сложности используемых и передаваемых в наследство социальных систем.
Связи с первой из них, здесь уместно вспомнить об одном интересном персонаже древнегреческой мифологии — разбойнике по имени Прокруст, который промышлял тем, что обманом заманивал в свой дом встречавшихся ему на дороге людей, где затем укладывал их на свое страшное ложе. Тех, кому оно было слишком коротко, он обрубал ноги; тех, кому оно было напротив велико, вытягивал по его длине, причиняя тяжкие страдания. Впоследствии выражение «прокрустово ложе» стало весьма расхожим и означало подогнать что-либо или кого-либо под известную мерку или стандарт, невзирая на все сложности и побочные издержки. Так вот, общественная жизнь нации, регулируемая множеством социальных норм, с точки зрения воздействия на интеллект и психологию индивидуумов в значительной степени похожа на упомянутое прокрустово ложе.
Чтобы быть принятым и успешным в любом обществе попадающий в него и проживающий в нем человек должен принять господствующие в нем нормы и правила. Эти правила совместного бытия требуют наличия определенного уровня социального интеллекта, ибо их слепого копирования недостаточно, ведь в жизни часто возникают нестандартные ситуации, принятие решения в которых требует работы мысли. По причине этого социальный интеллект даже взрослого индивида, если его уровень недостаточен, будет, по мере возможности и обстоятельств, развиваться и усовершенствоваться; в противном случае, когда уровень социального интеллекта субъекта значительно выше, он будет постепенно деградировать до необходимого уровня, так как не будет регулярно востребован в практической жизни. (На самом деле, высокий уровень социального интеллекта может быть даже вреден и опасен для человека, и может привести к тому, что Бенедикт Харман назвал термином «антисоциальное наказание»).
Однако, самый важный период унификации уровня социального интеллекта нации — детство. Ведь преимущественно именно в этот период происходит формирование человека и развитие его интеллекта до известного уровня. Именно в эти годы, как привило, родители тесно общаются со своим ребенком, передавая тому начальные знания о добре и зле, дурном и хорошем и обучая его основным правилам социального поведения, объясняя их смысл и показывая их на примере собственного поведения между собой и прочими людьми.
Помимо передачи социального интеллекта во времени, он может в отдельных случаях распространяться и в пространстве вместе с переносящим его в результате миграции населением. Так нынешние жители Австралии, Новой Зеландии, Соединенных Штатов и Канады в значительной мере сохранили высокий уровень социального интеллекта населения Соединенного Королевства и других западноевропейских народов. Здесь важно отметить, что значительная часть первых эмигрантов не отличалась образованностью и нравственностью, а состояла скорее из лиц совершивших преступления и бежавших от тюрьмы или виселицы, а также прочих асоциальных элементов. Например, заселение района реки Миссисипи, осуществляемое одноименной французской компанией, преимущественно, заключалось в том, что ее агенты вылавливали на улицах Парижа проституток, бродяг и нищих, которых затем с согласия властей насильственно, под крики, стоны и плач, сажали на корабли компании и отправляли в Новый Свет. Но, что важно, все эти люди, несмотря на их прежние наклонности и недостойный образ жизни, были европейцами и обладали одним неоспоримым преимуществом — высоким уровнем общественного интеллекта, который они использовали для регламентации социальной жизни на новом месте, а затем передали его своим детям и внукам; в результате в истории появилось несколько свободных, богатых и процветающих стран. И можно не сомневаться: если бы эти территории были заселены китайскими мандаринами или русскими аристократами, то они не достигли бы и половины того, чем обладают и гордятся ныне.
В свое время британский экономист Альфред Маршалл отмечал, что разрушенные в войнах города и разоренные страны очень быстро восстанавливают свое благосостояние, и основная причина этого в сохранении научного и технологического знания, позволяющего быстро восстанавливать прежний уровень материального благополучия. Действие социального интеллекта в чем-то похоже. Если предположить, что группа индивидов с развитым социальным интеллектом полностью теряет социальную память, не помнит ни традиций, ни обычаев, ни прочих социальных норм, то она, благодаря сохранившемуся уровню социального интеллекта довольно быстро вновь выработает те же самые правила, хотя это и потребует некоторых усилий.
Итак, подводя итоги только что изложенному, мы можем заключить. Социальные системы каждой нации, следовать которым принуждаются отдельные индивиды, являются особого рода передаточным механизмом, в результате работы которого уровень социального интеллекта нации длительное время остается постоянным во времени и пространстве, передаваясь по цепочке от одного поколения к последующему. Чтобы успешно действовать в сообществе, человеку жизненно необходимо понимать правила и нормы его функционирования, таким образом, качество, сложность и универсальность их задает (преимущественно, в молодом возрасте) планку социального интеллекта индивидуума, а, следовательно, и его способность создавать в последующем регламентирующие общественную жизнь социальные системы.
Раздел III. Воспроизводство культур и появление сходных культурных феноменов
Выявленный только что механизм передачи уровня социального интеллекта нации от одного поколения к другому, в сущности, есть ключ к ответу на поставленные в предыдущей главе вопросы. К разгадке причин возникновения определенных культурных явлений; сути процесса воспроизводства культур; и объяснению того, почему одни и те же самые культурные феномены самым непостижимым и часто неожиданным образом возникают у совершенно разных народов, живших на разных континентах в самые разные времена.
В свое время известный французский культуролог Леви-Стросс отмечал универсальность структуры мышления у людей различных рас — от дикаря до человека постиндустриального общества. Человеческий интеллект вообще и социальный интеллект в частности по своей природе универсальны (как универсальны операционные процессы самого первого и самого новейшего и современного компьютера); различия существуют лишь на качественном уровне — в уровне развития.
Вследствие того, что социальный интеллект универсален, способность индивидуумов создавать качественные и сложные системы морали и законодательства не зависит ни от разреза глаз, ни от цвета кожи, глаз или волос, ни от господствующей религии или чего иного. Люди самых разных народов, при наличии у них сходного уровня социального интеллекта, будут неизбежно создавать регламентирующие общественную жизнь социальные системы с длинным перечнем общих элементов. Элементов, которые, в свою очередь, определяют преобладающие в обществе стили поведения, господствующие идеалы, жизненные цели, приоритеты и смыслы, навыки мышления и ценности, воплощающиеся не только в образе социального поведения, но и в материальных и духовных произведениях культуры — в литературе, музыке, архитектуре, живописи и скульптуре, то есть во всем том, что обыкновенно понимается под термином «культура» в широком смысле.
Таким образом, универсальность социального интеллекта при сходных уровнях последнего создает похожие элементы социальных систем, а они уже непосредственно приводят к универсализму культурных феноменов. При низком уровне социального интеллекта неспособность индивидуумов создавать качественные, универсальные и справедливые социальные нормы и правила практически автоматически приводит к политическому деспотизму, отделению власти от народа, пресмыкательству и заискиванию перед правителем, от воли которого зависит если и не все, то очень многое, что, собственно, и наблюдалось у персов в V веке до новой эры, турок-османов и русских в XVI столетии. В сущности, в отсутствии развитой этической и прочих систем единственный способ регламентации общественной жизни — господство и подчинение. С другой стороны, при относительно высоком уровне социального мышления способность народов творить универсальные и справедливые социальные системы приводила к публичной политике, развитой судебной системе, свободе слова и плюрализму мнений, которые характерны как для Афин времен Перикла, Римской Республики, так и для современного западного мира.
Кроме этого, описанный здесь механизм передачи социального интеллекта от одного поколения народа к его последующим поколениям приводит к долговременной устойчивости некоторых частей его нравственных и законодательных систем (обычаев и традиций), способствуя сохранению преобладающих жизненных целей и смыслов, идеалов и, тем самым, обеспечивая воспроизводство его культуры.
Раздел IV. О трансформации отдельных элементов моральной системы при постоянном уровне социального интеллекта
Когда я говорю о том, что известный уровень социального интеллекта во всех случаях неизбежно порождает определенные элементы моральной системы и соответствующие им типы культурных явлений, то я вовсе не утверждаю, якобы этические системы народов совершенно не подвержены каким-либо переменам под влиянием общественно-исторических условий. В том числе: научного прогресса, экономического развития и усовершенствования политической системы.
На сегодняшний день в научной (культурология, социология и психология) и философской литературе существует явный дуализм в объяснении происхождения отдельных элементов моральных систем. Предполагается, что часть из них (постоянная) в виде традиций и обычаев механически по инерции передается последующим поколениям посредством общения, приобретения привычек, осмысленного или безотчетного подражания, другая же часть (переменная) элементы которой могут заменяться по мере изменений социальной среды, условий хозяйствования и жизни. Бесспорно, такой причинный дуализм — показатель теоретической слабости перечисленных дисциплин в этом важном вопросе. На мой взгляд, это положение вещей очень сильно напоминает период разложения теории ценности классической школы, когда меновая ценность одних (свободно воспроизводимых) благ определялась затраченным на их производство трудом, а других (например, произведений искусства, редких вин) в основном спросом на них. Что, в конечном счете, привело к маржиналистской революции, теория ценности которой объясняла ценность всей совокупности благ на основе единого принципа — предельной полезности.
В самом конце XIX столетия Габриэль Тард утверждал, что в основе передачи норм социального поведения (традиций и обычаев) лежит принцип подражания; само подражание может быть как вполне осознанным и желаемым самим субъектом, так и слепым, иррациональным, основанном на инстинктивном копировании поведения окружающих. В свою очередь, в начале XX столетия основатель американского институализма Торстен Веблен считал, что различные правила и стереотипы поведения — это «привычный образ мышления, который имеет тенденцию продлевать свое существование неопределенно долго». В конце 1920-х — начале 1930-х годов в культурологии выделилось особое научное направление «культура-и-личность», в центре которого оказалась воспроизводящая культуру личность; а американский культуролог Херсковиц выделил и изучал два качественно отличных процесса — социализацию, как обретение навыков жизни в обществе, и энкультурацию, как процесс вовлечения индивида в конкретную культуру с ее традициями и нормами поведения.
В последние десятилетия продолжает господствовать мнение, согласно которому большинство социальных норм принимаются индивидами в силу привычки или подражания (в частности, такого взгляда придерживались и Хантингтон и Фукуяма). Здесь, вероятно, будет уместно отметить, что гносеологически подобный взгляд основывается на принципе знаменитой локковской «чистой доски» (tabula rasa) и основах когнитивной психологии, то есть отрицает наличие у субъектов врожденных идей, предполагая, что социальное сознание, ценности и поведение — продукты деятельности ума (в виде совокупности опытных знаний и чувственных восприятий социального мира). Соответственно, единственной альтернативой такому пониманию причин постоянства традиций, отдельных социальных норм и правил является бихевиоризм и его наследники (этология), считающие их проявлением врожденного знания, как это делает, к примеру, американский социобиолог Эдвард Уилсон (хотя возможность приобретения инстинктов они не отрицают).
Но как бы там ни было с гносеологической точки зрения, вопрос, почему отдельные элементы системы морали, регламентирующие социальную жизнь и именуемые традициями и обычаями, оказываются чрезвычайно устойчивы, хотя другие, лишенные этого свойства, подвержены разрушительному влиянию времени, по-прежнему остается. Например, за последние десятилетия в западном мире горизонтальный индивидуализм, плюрализм мнений, стремление открыто выражать свою позицию, уважение к решениям судебной власти и государству остались нормой социального поведения. Между тем, широкая вовлеченность женщин в экономическую жизнь привела к увеличению их заработков, большей социальной независимости, одним из результатов чего стал рост числа неполных семей, а матери-одиночки теперь не подвергаются тому нравственному порицанию, как раньше; нетрадиционная сексуальная ориентация перестала открыто осуждаться, так как ученые и общество пришли к мнению, что процент таких людей во все времена относительно стабилен и невелик и не следует дискриминировать и осложнять жизнь людям; по мере роста благосостояния люди голосуют за увеличение государственных социальных гарантий, пособий по безработице, расширение медицинского страхования, к чему еще в середине XX века в Америке относились крайне негативно.
Я не собираюсь отрицать того очевидного факта, что обучение или слепое подражание часто наблюдаются в социальной жизни и посредством них люди усваивают важнейшие нормы социального поведения; особенно это справедливо, разумеется, применительно к детям и молодым людям, которым требуются авторитеты и примеры поведения. Но подобные примеры можно найти не только в общественной жизни: покупающий удобрения фермер использует их согласно инструкции, проектировщики зданий не рассуждают над истинностью законов Ньютона, а ученые, исследующие какую-либо проблему, обыкновенно действуют на основе господствующей парадигмы, используя ее метод и инструментарий. Очевидно, что все дело в отсутствии компетенции, общественном разделении труда и ответственности. Однако это совершенно не означает того, что индустрия удобрений и наука не совершенствуются, а предшествующие результаты не подвергаются критическому осмыслению. (На самом деле, как отмечал когда-то Томас Гоббс, критике мысли подвергаются даже тайны веры, которые с его точки зрения необходимо как горькие пилюли глотать целиком, если же их подвергнуть критике языка, то их придется выплюнуть).
Соответственно, то же самое наблюдается и в общественной жизни; критическое осмысление социальной действительности, как правило, это удел в прошлом старейшин племени, царей и философов (Солон, Ликург, Платон, пифагорейцы и так далее), а ныне общественных деятелей, просветителей, писателей и гражданских активистов.
Возможно, наиболее стабильные и устойчивые во времени нормы социального поведения (традиции) и в меньше степени подвержены влиянию критического разума, чем прочие, но это вовсе не означает их механического перехода от поколения к поколению. В сущности, вопрос заключается в том, почему они достаточно регулярно критически анализируются, но не пересматриваются или их пересмотренные модификации отторгаются обществом, в то время как другие — пересматриваются и заменяются.
Причина этого в том, что — как мы уже коснулись этого при рассмотрении устойчивости культурных феноменов, — уровень социального интеллекта нации, передаваясь от поколения к поколению посредством качества и сложности этической системы, чрезвычайно устойчив во времени. И, соответственно, как бы усердно не подвергались критическому осмыслению существующие традиции и обычаи замена последних, представляя собой в некотором смысле «сизифов труд», обречена на провал. В то время как другие, менее значимые и основополагающие элементы моральной системы, в ходе экономического и политического развития отбрасываются и замещаются новыми, более современными (происходит адаптация системы к социально-экономическим условиям). При этом качество и структурная сложность системы в целом остается на прежнем уровне.
Раздел V. Социальный капитал
Сегодня общепризнанно, что культура оказывает существенное влияние практически на все сферы общественной жизни — экономическое благосостояние, политическое устройство, уровень преступности, процент разводов и так далее. Еще в самом начале XX века Макс Вебер опубликовал самое известное свое произведение — «Протестантская этика и дух капитализма», в котором он утверждает, что протестантизм способствует появлению у его последователей ряда качеств (стремление посвящать работе большую часть дня, бережливость и рационализм) благоприятствующих экономическому развитию и процветанию. В другой своей работе «Протестантские секты и дух капитализма» он говорит, что еще одним последствием протестантизма стала исключительная способность его приверженцев образовывать сплоченные коллективы, характеризуемые высокой степенью доверия между их членами. Чуть позже уже упоминаемый ранее Веблен отмечал, что экономическое развитие зависит от специфики культурных инстинктов, преобладающих в человеческом поведении. По его мнению, если люди руководствуются желанием хорошо делать свою работу, заботятся об общественном благе и обладает тягой к новым знаниям, то, при прочих равных, такое общество окажется более процветающим, по сравнению с тем, в котором в поведении его членов преобладают агрессия и желание прославиться.
Примерно в тоже время американский экономист Ирвинг Фишер предложил именовать капиталом все, что позволяет генерировать поток доходов в течение определенного периода времени; естественно, согласно такому широкому пониманию капитала последний уже не мог рассматриваться исключительно в привычных чисто экономических категориях (в виде участков земли, предприятий, денежных средств и так далее). Спустя несколько десятилетий его коллега Гарри Беккер, известный своим стремлением применять методы и инструментарий экономической теории (принцип максимизации, концепцию альтернативных издержек и так далее) к самым разным сферам социальной жизни, ввел в научное обращение термин «человеческий капитал» (см. Г. Беккер. Человеческий капитал. 1964). Тем самым Беккер, по сути, открыл «ящик Пандоры»: увлечение обществоведами понятием капитал очень быстро привело к появлению целой серии новых терминов (культурный капитал, символический капитал, социальный капитал, языковой, религиозный, юридический и некоторым другим).
Так известный французский социолог Пьер Бурдье предложил понятие «символический капитал» под которым он подразумевал специфический социальный ресурс — доверие, благодаря которому отдельные индивиды и их группы могут передать какие-либо блага друг другу, будучи уверенными в возращении их ценности: например, передача денег в займы или оказание услуги в надежде на ответную услугу в будущем (см. П. Бурдье. Практический смысл. 1980). Однако феномен доверия между индивидуумами или группами таковых получил наиболее широкое научное употребление в термине «социальный капитал» в трактовке американского социолога Джеймса Коулмена, согласно которой он обозначает потенциал взаимного доверия и взаимопомощи, представленных в виде социальных норм и правил, формирующих обязательства и ожидания (см. Дж. Коулмен. Социальный капитал в создании человеческого капитала. 1988).
Одна из самых лучших и, что не менее важно, здравых и ясных концепций доверия и социального капитала в их органической связи с культурой представлена в книге Френсиса Фукуямы «Доверие: Социальные добродетели и путь к процветанию», изданной в 1995 году. Сначала я очень кратко изложу его взгляды на эти вопросы, а затем укажу на достоинства и недостатки его концепции.
Итак, с точки зрения Фукуямы «Доверие — это возникающее у членов сообщества ожидание того, что другие его члены будут вести себя более или менее предсказуемо, честно и с вниманием к нуждам окружающих, в согласии с некоторыми общими нормами» (Часть I. Глава 3). Далее, «Социальный капитал — это определенный потенциал общества или его части, возникающий как результат наличия доверия между его членами» (там же). По его мнению, чем выше у составляющих общество индивидуумов и социальных групп стремление быть честными, милосердными к окружающим, осознавать и учитывать в своих действиях общественные интересы, а не руководствоваться в принятии решений только эгоизмом, тем выше будет и уровень социального капитала.
В отношении того, как социальный капитал возникает и поддерживает свое общественное бытие, Фукуяма утверждает следующее: «социальный капитал отличается от других форм человеческого капитала тем, что обычно он создается и передается посредством культурных механизмов — таких, как религия, традиция, обычай» (там же). Иными словами, уровень доверия и социального капитала проявляет себя, прежде всего, в конкретных религиозных догмах и моральном кодексе: «Главным институализированным источником культурно обусловленного поведения выступают исторические религии и этические системы» (Часть I. Глава 4).
Что очень важно, он считает, что культура по своей сути иррациональна, то есть религиозные и нравственные системы передаются просто в силу привычки в процессе элементарной адаптации: в кругу семьи, друзей, в школе. Это свое мнение он подкрепляет цитатой из Аристотеля: «повторение одинаковых поступков образует соответствующие нравственные устои» (Аристотель. Никомахова этика. Книга II. 2). Кроме этого, в пользу того, что культура продиктована привычкой приводит примеры китайцев, пользующихся по традиции палочками для еды, а не вилками и ножами, и иррационального индуистского поклонения коровам, численность которых равняется половине населения Индии и затраты на содержание которых не приносят ему никакой выгоды.
Что касается объяснения высокого уровня доверия характерного для протестантских стран, то он вслед за Вебером заявляет, что он возник не как результат рационального выбора, в как результат религиозного языка. Первоначально протестанты рассматривали напряженный труд и нестяжательство, как способ почитания бога, а впоследствии это привело к честности, бережливости и исключительной способности образовывать сплоченные коллективы (профессиональные союзы, родительские комитеты, благотворительные организации, клубы по интересам и иные добровольно самовозникающие ассоциации).
К несомненным достоинствам его концепции социального капитала можно отнести. Во-первых, то, что он, следуя за Коулменом, совершенно верно рассматривает общественный капитал как особый тип человеческого капитала в виде получаемого индивидом в ходе его энкультурации (вовлечения в конкретную культурную среду) этического навыка, благодаря которому тот способен понимать поведение окружающих и сам действовать в согласии с их ожиданиями. Во-вторых, Фукуяма абсолютно правильно отмечает, что уровень социального капитала проявляется, в первую очередь, в способности индивидуумов создавать добровольные (без какого-либо содействия со стороны государства) гражданские объединения для различных целей, что способствует экономическому процветанию и установлению устойчивой демократии. (Сетевой подход, в основе которого лежат экономические, информационные и прочие связи между образующими социальные сети индивидами вносит меньшую ясность в понимание этих вопросов, хотя он более продуктивен в ряде других — например, установлено, что люди с обширными социальными связями гораздо меньше страдают психологическими расстройствами и в целом дольше живут).
В-третьих, немалым достоинством его работы, о котором я еще не упоминал, является то, что он убедительно опровергает широко укоренившееся заблуждение якобы Япония и США — это два очень разных мира: японцы по своей природе коллективисты и государственники, а американцы — индивидуалисты, всячески стремящиеся ограничить полномочия правительства. Что в действительности и одни и другие легко создают гражданские ассоциации, склонны демонстрировать свою набожность, лояльность государству, а не только семье. Что в обеих странах в экономике господствуют крупные современного типа корпорации, а не мелкие и средние семейные фирмы или государственные предприятия.
В итоге получается, что далекая и загадочная Япония по своей социально-экономической структуре гораздо ближе к США и Германии, нежели к Китаю, Тайваню или Гонконгу, а Германия и США ближе к Японии, чем к Франции, Италии и другим католическим странам Южной Европы (Часть I. Глава 3, 6). И объясняется это множество общих для американцев и японцев черт исключительно высоким уровнем доверия и социального капитала свойственного представителям этих культур.
То, что Фукуяма связывает индивидуальное поведение с культурой, а ту, в свою очередь, с этической системой — это, бесспорно, очень правильно; но его точка зрения согласно которой «и по своему существу и по своему бытованию культура есть нечто нерациональное», нечто передаваемое и приобретаемое в силу привычки глубоко ошибочно. Он упускает из виду то обстоятельство, что этические системы имеют как культурно обусловленные нормы (постоянная часть), так и переходящие, подверженные изменениям в ходе социально-исторического процесса (переменная). Вследствие этого он, естественно, не понимает перманентность процесса критического осмысления этического кодекса и описанный много ранее механизм культурного воспроизводства. В то время как приводимые им в качестве доказательства его тезиса примеры иррационального по сути употребления китайцами пищи с помощью специальных палочек и бесполезного содержания индусами огромного поголовья коров не могут быть приняты: я не отрицаю того факта, что в силу ряда психологических причин — желания иметь что-то общее со своими предками (палочки и коровы — своеобразные знаки и символы призванные продемонстрировать преемственность поколений, кстати, часто чисто внешне, выхолащивая внутреннюю суть старых традиций или же самоидентифицировать себя с определенным сообществом) — могут приобретать ценность вне практического, или утилитарного, смысла и, не соответствуя настоящим социально-историческим условиям, продолжать свое существование; но следует понимать, по определению, ограниченность круга подобных явлений, а также то, что последний выбирается среди таких вещей, которые не затрагивают важнейшие регулятивные нормы социального поведения, к которым как раз и относится культурная (постоянная) часть регламентирующих поведение индивидов социальных систем.
В результате всего сказанного, Фукуяма, осознав детерминированность экономической и политической системы уровнем социального капитала, не смог самостоятельно и верно объяснить, какие причины определяют этот уровень. Поэтому он и обращается к веберовской концепции религиозного детерминизма, которая совершенно никак не может помочь понять причину сходного уровня социального капитала в Японии, Германии и США, вместо того чтобы инициировать поиск такой причины, которая одновременно определяет как уровень социального капитала, так и религиозный свод, и этический кодекс. Впрочем, в своем следовании за Вебером Фукуяма вовсе не одинок; к примеру, еще ранее Сеймур Мартин Липсет утверждал, что большинство стабильных демократий находится среди богатых и благополучных протестантских стран (см. С. Липсет. Политик. 1960).
В действительности уровень общественного капитала прямо пропорционален уровню социального интеллекта. Чем выше у индивидов способность, абстрактно мысля, создавать универсальные нормы совместного бытия, тем более сложными, качественными и справедливыми будут эти нормы. Соответственно, тем более монолитным и цельным, скрепленным взаимными обязательствами и правами окажется их сообщество; более сложными и всепроникающими социальными связями и социальными сетями оно будет охвачено. Тем больше в нем будет добровольных ассоциаций и крупных промышленных корпораций; больше социально ответственного поведения и число благотворительных организаций, политических свобод и личностного самовыражения. И, соответственно, меньше окажется дистанция между властью и гражданами.
И, наоборот, чем ниже окажутся указанные способности: тем более дефрагментированной, разбитой на, преследующие свои эгоистические цели, семьи, кланы и группировки окажется нация. Тем выше будет ксенофобия, национализм, власть будет почитаться надежным и легитимным источником личного обогащения, а крупная частная собственность нелегитимной. Законы и суды будут вызывать недоверие. Будет обилие политического популизма и мало гражданских объединений, а те которые будут существовать, окажутся продажными (классический пример — позорная сделка лидеров бразильских профсоюзов с правительством в 1960-х годах, когда руководителям раздали денежные кредиты и они, предав своих членов, прекратили процесс объединения своих организаций). Тем больше будет недоверия к полиции и политическим партиям, а доверием будет пользоваться, вероятно, только церковь.
Раздел VI. О причинах изменения уровня социального интеллекта (и, соответственно, общественного капитала)
В завершении темы социального интеллекта необходимо сказать хотя бы несколько слов о причинах вызывающих дифференциацию его уровня у различных народов прошлого, настоящего и будущего.
На сегодняшний день изучением изменения человеческого интеллекта в ходе эволюции и под воздействием контекста общественно-исторических условий занимается особая научная дисциплина — сравнительная психология; хотя, конечно, попытки исследовать этот вопрос предпринимались и ранее. И здесь, прежде всего, следует упомянуть книгу французского дипломата середины XIX столетия (одно время личного секретаря де Токвиля) Жозефа Гобино «Опыт о неравенстве человеческих рас», которую, правда гораздо позднее, сидя в тюрьме, тщательно изучал главный преступник XX столетия Адольф Гитлер. Будучи основателем так называемого расово-антропологического подхода в изучении социальных явлений, Гобино выделял белую, желтую и черную расы, которые якобы характеризуются постоянством физических и духовных черт, главная из которых — интеллект. По его мнению, высшей расой является белая раса, ее представители отличаются высоким уровнем интеллекта и развитой культурой, благодаря своему генетическому превосходству над представителями других рас, смешиваясь с которыми первые утрачивают «чистоту крови» и свое интеллектуальное, духовное и экономическое превосходство.
Кроме идеологов нацизма последователями его теории иногда были и вполне респектабельные и уважаемые ученые, например, Густав Лебон и Фридрих Ратцель; последний утверждал, что кровосмешение европейских поселенцев с местными жителями (индейцами) в Мексике и Перу приводило к тому, что последние с каждым очередным притоком крови все более и более в интеллектуальном и духовном аспекте приближаются к европейцам. (Справедливости ради следует заметить, что сам Гобино даже не догадывался о том, что его теория будет положена в основу фашисткой идеологии; его целью было обосновать превосходство голубой аристократической крови в политических делах и государственном управлении).
Отголоски теории Гобино можно найти: в псевдонаучных концепциях Ляпужа и Аммона о превосходстве представителей длинноголовой арийской расы; в теории расовой предрасположенности Ломброзо (последователем которого был гарвардский профессор Э. Хутон), утверждающей, что расовые типы различаются в плане умственных и эмоциональных качеств, вследствие особенностей их физической организации и происхождения, и это проявляется, в том числе, в том, что сужденных и находящихся в тюрьмах афроамериканцев в четверо больше, чем белых. Позднее стали появляться разнообразные концепции генетического детерминизма, утверждающие, что многие психические и социальные явления — последствия этнических смешений (дрейфа генов).
Невозможно отрицать, что частота тех или иных генов встречающаяся у разных рас или этнических групп — весьма эффективный научный инструмент в руках антропологов пытающихся восстановить историческую картину возникновения и географического перемещения народов. Например, что предшественники северо-американских индейцев попали на континент через Аляску, что предки нынешних жителей японских островов, скорее всего, пришли туда их Кореи, и что современные баски генетически очень сильно отличаются от всех остальных жителей Европы. Однако, процессы ассимиляции и социально-экономические факты красноречиво и убедительно доказывают нам, что генетический фактор не является определяющим в плане социального прогресса, политических свобод, экономического развития и безопасности.
Массовая миграция XX века, обусловленная глобализацией, чередой этнического насилия, серией военных конфликтов и бедностью вполне доказала, что часто азиаты, арабы, африканцы и южно-американцы перебираясь в расчете на сытую и безопасную жизнь на Запад испытывают определенные проблемы с культурной адаптацией. Однако если они живут на новом месте не замкнутой общиной, то их дети часто сливаются с местным населением, и они уже не слепо копируют социальное поведение коренных жителей, как это делали их родители, но их социальный интеллект способен понимать его, а значит, они уже оказываются способны к позитивному критическому осмыслению этих норм и могут предлагать ценные рекомендации по изменению их переменных частей. И, наоборот, западные люди волей судьбы заброшенные в разные части света оставляют потомство социальный интеллект которого упускается до привычного для тех мест уровня.
Помимо этого, против расово-антропологического теории и генетического детерминизма говорит, то что уровень социального интеллекта нации, как я уже доказал многочисленными общественно-историческими фактами, и, соответственно, уровень демократизации и богатства не зависит ни от цвета кожи, ни от разреза глаз, ни от цвета волос, ни от формы головы. Поэтому и утверждения некоторых криминологов, дескать, афроамериканцы генетически предрасположены к совершению преступлений в большей степени по сравнении с белыми чрезвычайно сомнительно: вероятнее всего, что приведенная выше статистика говорит лишь о различиях в социально-экономическом положении черных и белых и различии культурной среды, в которой воспитываются их дети.
Между тем, не следует думать, что я полностью отвергаю влияние генетического фактора на уровень социального интеллекта. Ведь подобно тому, как Левкипп, Демокрит, Эпикур или Пьер Гассенди и другие имели представления об атомах задолго до научного доказательства их существования, так и о существовании генетического или кровного фактора люди догадывались задолго до открытия генов. Например, Тит Ливий повествует о препятствиях, которые в V веке до новой эры патриции, опасаясь за чистоту своей крови, чинили принятию закона разрешающего браки между ними и плебеями (см. Т. Ливий. История Рима. Книга IV. 1). Я просто имею в виду, что подавляющее большинство населения земного шара, возможно, за исключением самых отсталых племен Тропической Африки, Амазонии и Крайнего Севера, не настолько сильно генетически различно, чтобы этот фактор оказывал первостепенное влияние на уровень социального интеллекта и капитала, соответственно. Дело в том, что хотя индивиды с высоким уровнем социального интеллекта, проживающие в развитых странах, сегодня обладают большими способностями к абстрактному мышлению необходимому для понимания действующих социальных норм, однако эти способности оказывают ничтожно малое воздействие на гены их потомков. Ибо, для того чтобы эти способности оказали в ходе эволюции на них ощутимое влияние, нужны тысячи или, скорее всего, десятки тысяч лет. Ничто не свидетельствует о том, что нынешние жители запада генетически более предрасположены к высокому уровню социального интеллекта, нежели в прошлом жители лидийского царства, древние греки, карфагеняне или римляне.
Поэтому вероятнее всего повышение уровня социального интеллекта членов племени или народности производило по причине внезапно встающего перед ними вызова, требующего психического (умственного) напряжения, позволяющего перестроить господствующие социальные отношения и нормы поведения для адекватного и эффективного ответа. Вызовом могли быть: во-первых, угроза завоевания, для предотвращения которой народность резко объединялась, устанавливая новые регуляторные нормы социальной жизни, повышающие доверие и социальный капитал. Во-вторых, голод и нависшая угроза вымирания, требующие объединения и рациональности использования ограниченных продовольственных ресурсов. В-третьих, похолодание климата, наводнение или вынужденная миграция, со всей сложность обустройства на новом месте в незнакомой среде. Во всех этих случаях резкое изменение исторических условий существования племени, союза племен или народности приводило к необходимости коренного пересмотра действующих социальных норм и правил в течение одного или двух поколений, к их усложнению и большей универсальности. Новые, более сложные нормы требовали и более высокого уровня интеллекта и служили его передаточным механизмом, о работе которого было рассказано выше.
Кроме вызова для повышения уровня социального интеллекта, по всей видимости, были необходимы некоторые сопутствующие условия, например, возможно, наличие животных, которых можно приучить и способных содействовать в обработке земли. (Известно, что в Южной Америке до пришествия европейцев из крупных животных были только ламы, а в Северной Америке местная популяция лошадей вымерла за несколько тысяч лет до открытия Нового Света).
То, что повышение уровня социального интеллекта в результате психического напряжения вероятнее всего было ответом на некий, угрожающий существования сообщества, вызов, подтверждается и тем, что психологи очень часто под интеллектом понимают способность разрешать новые ранее неизвестные жизненные задачи. Необходимость выживания — мотив, ответ на вызов — приоритетная задача, разрешение которой абсолютно необходимо, в то время как готового и привычного ответа на которую нет в наличии. Только такие насущные и сложные задачи и их разрешение способны поднять социальный интеллект племени, народности или нации на новый, более высокий уровень.
Что касается важной роли вызовов и ответа на них в формировании социально-исторических процессов, то она была отмечена, в частности, известным британским цивилизационным историком Арнольдом Тойнби. Он полагал, что развитие и существование крупных сообществ (цивилизаций) определяется способностью (или отсутствием таковой) ее элиты найти адекватный ответ на серьезный вызов природного мира или человеческой среды. Тойнби правильно отмечает ключевую роль фактора вызова в жизни человеческий сообществ; однако он, как я это покажу позднее, не понимает причины образования цивилизаций и чрезмерно преувеличивает роль элиты в социальных процессах (что, правда, характерно и для многих других, например, Хайека и Ортеги-И-Гассета). На мой взгляд, совершенно очевидно, что элиты не могут изменять уровни социального интеллекта и капитала, от которых зависит процветание. Ибо они порождение масс, которые неверно представлять, как нетворческое большинство, так как они участвуют в создании и функционировании нравственной системы (наиболее важной из всех регуляторных систем), этой плоти и крови общественной жизни.
Однако наиболее значимый период времени в определении будущего уровня социального интеллекта — это период становления народности. Когда в силу исторических причин — завоевания или миграции — на территорию проживания некой народности прибывают представители другой в таком числе, что они не способны ни ассимилировать местное население, тем самым, изменить его уровень социального интеллекта до уровня своего, ни сами раствориться в нем, его культуре и нравах. Причем предсказать заранее исход такого смешения, — будет ли уровень социального интеллекта новой народности усредненным уровнем социального интеллекта образующих его общностей или принципиально иным, — по всей видимости, не представляется возможным. Самые великие народы образовывались самым неожиданным образом — вот, что говорит Саллюстий о зарождении римского народа. «Город Рим, насколько мне известно, основали и вначале населяли троянцы, которые, бежав под водительством Энея из своей страны, скитались с места на место, а с ними и аборигены, дикие племена, не знавшие ни законов, ни государственной власти, свободные и никем не управляемые. Когда они объединились в пределах городских стен, то они хотя и были неодинакового происхождения, говорили на разных языках, жили каждый по своим обычаям, все слились воедино с легкостью, какую трудно себе представить: так в короткое время разнородная, и притом бродячая, толпа благодаря согласию стала гражданской общиной» (О заговоре Катилины. 6).
Это еще раз подтверждает, что социальный прогресс — многофакторный процесс, о котором нам на сегодня известно очень немногое. Поэтому данный раздел будет уместнее всего закончить следующими словами Дарвина: «Прогресс зависит, по-видимому, от стечения многих благоприятных обстоятельств, и этот комплекс слишком сложен, чтобы можно было проследить его составные части в отдельности» (Ч. Дарвин. Происхождение человека. Часть первая. Глава V. 1872).
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/6181/6183

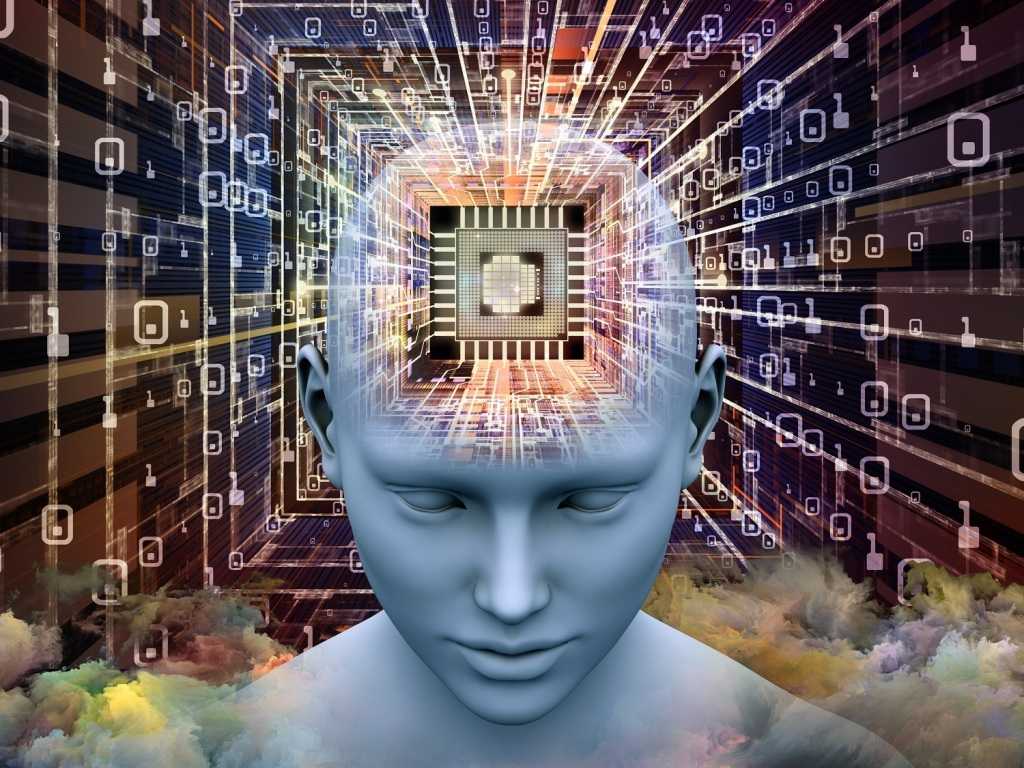









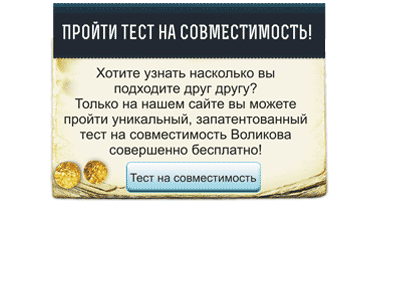
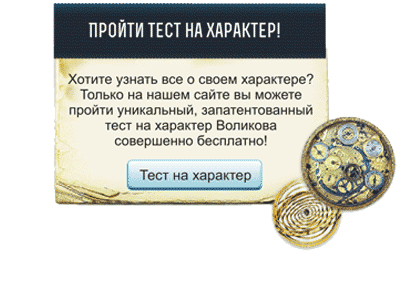
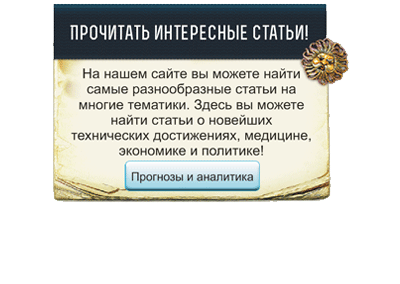




Комментарии (0)