
Рэндалл Коллинз (Randall Collins) — американский философ и социолог. Профессор социологии Университета Пенсильвании (The University of Pennsylvania), президент Американской социологической ассоциации (The American Sociological Association). Автор многочисленных работ и ряда фундаментальных трудов по теории социального конфликта (считается одним из ведущих в Соединенных Штатах специалистов в этой области), социологии политических и экономических изменений, социологии знания, а также общей теории социологии. Представленная здесь работа впервые опубликована в 1999 году.
Аналитическое осмысление этничности составляет одно из слабых мест социальных наук. По этой теме написано немало, но многое из сказанного имеет сиюминутное значение. В прошлом столетии наблюдался подъем энтузиазма в пользу и против разного рода этнических и националистических движений. Споры были горячими и зависели от текущих политических настроений. С конца XX века престиж этнической автономии был высоким, а дискурс социальных наук был наполнен такими морально нагруженными понятиями, как мультикультурализм, право на свою культуру и культурный геноцид. Такое настроение совершенно отличалось от того, что преобладало в начале XX века и раньше, когда либеральным идеалом зачастую был включающий национализм, который должен был преодолеть мелкие регионализмы и местную вражду во имя единого народа, стремящегося к общей цели. В шекспировской пьесе «Генрих V» при сборе королем корнуольцев, валлийцев, ирландцев и шотландцев — то есть всех англичан — на битву, используется тот же архетип, что встречается и в американских фильмах о Второй мировой войне, в которых принято показывать взвод, состоящий из парнишки-фермера (белого англо-саксонского протестанта), итальянца, шведа и еврея, способных ради общего дела забыть на время о своих различиях. И все же в истории, помимо этнической замкнутости и этнического плавильного тигля, существовали и другие варианты, например, космополитическое Просвещение XVIII века, признанным идеалом которого была более широкая культура, возвышающаяся над всем местным и частным и порывающая с ним.
Этот анализ страдал от одномерности. Мы слишком легко согласились с тем, что развитие идет в одном направлении, что мир в целом эволюционирует к постсовременному состоянию или уже достиг его, что существуют «эпохи национализма» или эпохи политической корректности. Рассмотрим полярные представления о будущем XXI (или XXII) века, которые предполагаются этими альтернативными моделями: станет ли оно будущим, в котором все этнические группы будут свободными и независимыми, даже имея свое собственное государство? Или же в нем продолжит свое развитие долгосрочная тенденция объединения множества разнородных небольших локальных групп в большие национальные блоки, а затем в единую мировую культуру, и создания — вследствие заключения межнациональных браков — единой мировой расы? Таковы оптимистические идеалы; их отрицательные соответствия — мир многоэтничной вражды, грядущее столетие погромов, геноцида и терроризма, легитимируемого стремлениями по-прежнему угнетаемых этнических общностей, либо столетие мягкого единообразия в условиях мировой гегемонии английского языка и американской популярной культуры. Подобное изложение заставляет нас сомневаться в том, что будущее полностью будет соответствовать одному из вышеприведенных сценариев. История всегда оказывается сложнее, чем в описаниях таких односторонних моделей.
Необходима более глубокая проработка аналитической основы. Ни один процесс не затрагивает всего мира, ни даже отдельных его регионов в целом. Нам необходимо смоделировать целый ряд вариантов этнического устройства и сформулировать условия, определяющие развитие региона в том или ином направлении. Регион может развиваться в направлении большего этнического много- или единообразия, в направлении того, что несколько тенденциозно было названо мной «балканизацией» или «американизацией». Моя основная идея состоит в том, что такие различия зависят от силы государства: в какой степени военное государство мобилизует свое население и пронизывает его гражданскими щупальцами. На этом покоится геополитическое благополучие государств. Я излагаю здесь государственно-центрическую теорию этничности в сочетании с государственно-центрической теорией революции.
Построение такой теории требует, чтобы вещи рассматривались в соответствующем контексте. Исследователи всерьез занимались этничностью и близкими по семантике темами — расовыми проблемами, национализмом и гражданством — и установили множество причинных условий и процессов. Моя основная мысль заключается в том, что при попытке обобщения такие причинные условия оказываются сомнительными. Из-за различий в геополитическом контексте то, что способствовало этнической ассимиляции в Соединенных Штатах 1950-х годов, не работает в Советском Союзе 1980-х годов. Всякая всеобъемлющая теория этничности должна быть теорией, учитывающей множество причин. Но среди множества причин одни важнее других. И я утверждаю, что различия в развитии государств обусловлены геополитическими отношениями между ними.
ЧЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП?
Несмотря на проводившиеся в Соединенных Штатах исследования этничности, они едва ли подходят для построения аналитической теории. Социологические исследования в основном касались процессов дискриминации; в более оптимистичные или самодовольные времена они занимались процессами ассимиляции. Но в этих исследованиях самоочевидным казался вопрос о том, почему же существуют этнические группы. Нас преимущественно интересовал вопрос о том, почему этнические группы продолжают существовать или когда они исчезают. Мы не рассматривали достаточно последовательно вопрос о том, каким образом создаются этнические группы. Отчасти это объясняется тем, что в основе большинства исследований лежат определенные идеологические допущения. Если кто-то является сторонником ассимиляции, то он склонен считать доминирующую этническую группу не этнической, а просто господствующей культурой этого общества. Если кто-то придерживается радикально-критических взглядов, он может формально признавать и осуждать этот подход, отмечая, что господство англо-американской культуры или преобладание белых англо-саксонских протестантов отражает привилегированный статус одной этнической группы среди прочих. Во всяком случае, вследствие принятия на веру культурных категорий и, в сущности, совершенно особой исторической обстановки, упускается главное. Ассимиляция — это сокращение количества этнических групп, в пределе — до одной этнической общности на государство. Склонность считать гегемонистскую этническую группу целью ассимиляции обнаруживает общий процесс: некоторые этнические группы обладают легитимностью, точно так же, как легитимностью может обладать политическое господство. Количество этнических групп со временем изменяется, как изменяется и легитимность доминирующей этнической общности.
Вопрос, на который должна ответить всеобъемлющая теория этничности, звучит следующим образом: что заставляет регионы развиваться в том или ином направлении? Рассмотрим этот вопрос с точки зрения сторонника этнического освобождения. Риторика его позиции, естественно, предполагает существование этнической группы, наличие у нее своей истории, корней и связанной с прошлым идентичности. Политическая задача заключается в еще большей мобилизации этой идентичности с тем, чтобы ее носители боролись за ее сохранение и автономию, а представители других этнических общностей признавали обоснованность ее притязаний. Мобилизованные участники этнического конфликта придерживаются примордиалистских позиций. И это также дает пищу для беспристрастных размышлений аналитической теории. Предполагается, что представления активистов не служат достаточным основанием для теории или сколько-нибудь удовлетворительного исторического описания. Примордиалист превращает историю в ограниченное изучение прошлого, кажущегося очевидным развитием того, что можно считать историческими корнями. Итальянцы в Соединенных Штатах на рубеже XX века обретали итальянскую идентичность, тогда как на своей родине они были носителями сицилийской, калабрийской, неаполитанской, генуэзской и прочих идентичностей, а сами эти региональные этнические общности были результатом ассимиляции прежде разрозненных деревень или кланов. То же относится и к «чиканос», возникшим в результате ассимиляции индейцев, метисов, испанцев и других этнических общностей. Складывающаяся категория «латиноамериканцев» охватывает еще большее пространство континуума. Этнические группы не только воспроизводятся или исчезают; они также и создаются. Процесс политической мобилизации сокращает количество мест возможного проведения границ для коллективного действия; конфликт создает структуру, которая проецируется назад, в примордиальное прошлое 1.
Этническая группа — это не только и даже не столько сообщество, обладающее общей культурой и идентичностью. Ее идентичность образуется разделительными линиями, позволяющими противопоставлять ее другим. Основной вопрос заключается в том, сколько этнических групп существует во времени и пространстве в восприятии общества? И более важный в аналитическом отношении вопрос: чем определяется сокращение или увеличение количества этнических групп и, следовательно, числа межэтнических границ? Простой ответ, которого необходимо избежать, приходит после здравого рассмотрения первого вопроса. Из повседневного общения нам известно, что этнические группы существуют в Соединенных Штатах или в Боснии, и, обладая такой информацией, мы можем исследовать кажущиеся более важными вопросы противоборства, господства или гармонизации. Причем ответы на них, основанные на изучении настоящего в краткосрочной перспективе, постоянно оказываются разными. Чтобы предсказать направление развития краткосрочных процессов, нам необходима долгосрочная, макроисторическая точка зрения.
СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭТНИЧНОСТИ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Лучше всего описывать этничность как метасообщество, остов сообщества сообществ. Все представители этнической группы не знакомы друг с другоми они не образуют тесно взаимосвязанной группы людей. Многие этнические группы, например, немцы и китайцы, насчитывают миллионы человек. Этнические общности зачастую описываются как культурные единицы, которым свойственны особые кухня, стиль одежды и образ жизни. Такие единицы создаются в результате двух взаимосвязанных процессов: социального действия, поначалу неосознанного, которое приводит к возникновению этих местных особенностей и культурного обозначения границ группы, когда ее отличительные особенности начинают узнаваться в качестве особых признаков людьми, которые к этой группе не принадлежат, а затем и самой группой. Здесь я сосредоточу внимание на двух наиболее наглядных в аналитическом отношении признаках, которые проясняют социальный процесс конструирования простой протоэтнической общности и мобилизации этнонационализма. Этими признаками являются соматотипы и языки.
СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ СОМАТОТИПОВ
Люди, принадлежащие к этнической группе, как правило, выглядят одинаково — или, по крайней мере, члены группы достаточно часто имеют определенные физические особенности, которые осознаются обществом в качестве таких, какими будто бы должен обладать «типичный» представитель этой этнической общности. Скандинавы, вероятнее всего, будут голубоглазыми блондинами со светлой кожей; итальянцы — смуглыми брюнетами; и так далее. Физические антропологи внесли бы небольшие уточнения, описав относительную распространенность определенных структур лицевых костей и размеров скелета, образцов зубов и групп крови. Разговор об этом сегодня может показаться дурным тоном, поскольку тем самым воскрешаются старые несостоятельные теории, которые приписывали различные исторические судьбы «широколобым» и «узколобым» или искали преступные наклонности или наследственную бедность у народов Южной или Восточной Европы. Скорее всего, нет никакой существенной корреляции между физическим обликом и умом, поведением или культурой. И все же я обращаюсь к этническим соматотипам с тем, чтобы подчеркнуть два аналитических момента 2.
Во-первых, отсутствует сколько-нибудь глубокое и аналитически значимое различение между «расой» и «этничностью». Традиционно расы выделяются по физическим отличительным признакам (например, по цвету кожи), а этнические группы — только по культурным. Но этнические группы обладают также соматотипическими особенностями (волосы, цвет кожи, строение лица и тому подобное), которые обычно замечаются людьми при высоко развитом сознании этнических границ. Социологическое различение между этничностью и расой вредно в аналитическом отношении, поскольку оно скрывает социальные процессы, определяющие проведение границ в континууме соматотипических градаций. Раса — понятие из обыденной жизни, популярная мифология, которая превращает отдельные особенности этноса в резкое отличие. Будучи социологами, мы должны показать, чем же определяется соответствующее положение в континууме. Придание этническим общностям расового характера — это лишь одна из крайностей этого процесса. Предложенная здесь геополитическая теория этничности по определению является также теорией расы 3.
Во-вторых, степень соматического своеобразия конструируется социально. Социальное взаимодействие подчиняет себе биологию. Соматические различия, как и все остальное, распределяются в континууме. Степень сходства или различия в этнических соматотипах зависит от степени обособленности популяций. У народов, живущих в отдаленных друг от друга частях света, скорее всего, обнаружатся совершенно различные соматотипы. Такие географически обособленные популяции выработали соматотипы скандинавов, кельтов, жителей Средиземноморья, африканцев района Сахары, китайцев, айнов и всех остальных соматических видов человечества. И наоборот, там, где популяции близки в географическом и социальном отношении, сходство соматотипов возрастает. При полной социальной и территориальной близости они сливаются. Соматотипы — это указатели глобальной истории; они представляют собой геополитические метки, нанесенные на тела людей. Соматические различия между людьми, живущими теперь рядом друг с другом, отражают прошлые модели завоевания и миграции, включая вынужденное переселение рабов. Там, где соматические различия бросаются в глаза (например, очень светлая или очень темная кожа), причиной этого должна быть миграция из отдаленных частей света, где популяции были обособлены на протяжении длительного времени. Если соматотипы сохраняют свои особенности даже тогда, когда группы находятся в географической близости, то причиной тому служат социальные процессы, которые сохраняют популяции обособленными. Этносоматическое своеобразие социально конструируется сначала в виде протоэтнических соматотипов (черные африканцы и кельты имели различный физический облик в 500 году Нашей Эры, потому что никогда не жили рядом друг с другом), а затем в виде этнонациональных соматотипов, поддерживаемых социальными барьерами, которые препятствуют заключению межэтнических браков (например, в 1970-х годах, когда черные африканцы и кельты жили в Британии и Америке).
И социальные отношения определяются не цветом кожи (или другими физическими особенностями) как таковым. В Швеции XIX—XX веков голубоглазых блондинов со светлой кожей среди финнов, как правило, презирали; они считались неопрятными и похожими на прислугу. Очень светлый соматотип финнов отсылал к геополитической истории, когда Финляндия входила в состав завоеванных владений шведского государства с XVI по XVIII век, а финны были батраками и прислугой у шведских хозяев. В эпоху античного Средиземноморья греки, а позднее арабы, покупали рабов со светлой кожей из Восточной Европы, Руси и азиатских степей, а также черных рабов из Африки; тогда очень темный и очень светлый цвета кожи считались признаками подчиненного социального положения. Геополитическое обособление создает протоэтнические соматотипы. Геополитическое господство наделяет эти признаки особым значением, превращая их в знаки социального превосходства или неполноценности.
Расовая дискриминация по цвету кожи — это следствие, а не причина. Европейцы сделали чернокожих африканцев рабами не потому, что они были чернокожими. Владельцы плантаций сахарного тростника и хлопка на островах Карибского бассейна и на американском Юге первоначально пытались выращивать свои культуры силами коренных американских племен и европейских законтрактованных работников (по сути, рабов на определенное количество лет), но потерпели неудачу в воспроизводстве этих источников рабочей силы. Плантаторы обратились к Африке потому, что доступной стала поставка рабов из этого региона (Williams 1966). Именно рабство создало расизм, а не наоборот. В свою очередь, Африка оказалась уязвимой для работорговли именно потому, что рабство в ней уже существовало и рабы охотно поставлялись в прибрежные порты. К тому же, племенные общества Африки были собирательскими и, следовательно, намного более слабыми по своим геополитическим ресурсам, чем аграрные государства арабов, а позднее — протокапиталистические государства европейцев, которые организовали торговлю рабами на большие расстояния. Всеобъемлющая макроисторическая социология большой длительности позволяет путем сравнения и привлечения соответствующих археологических и палеонтологических данных установить, скольким поколениям группы необходимо прожить обособленно, чтобы достичь такой степени соматического своеобразия. Временной процесс асимметричен; формировавшиеся тысячелетиями различия могут быть стерты за несколько поколений при условии широкого распространения межэтнических браков. При переходе группы из состояния протоэтнической общности, когда собственная обособленность остается неосознанной, в состояние мобилизации на этнонационалистической арене дальнейшее сохранение соматических различий будет возможно только при условии их постоянного воспроизводства.
Это может происходить двумя путями: либо путем переноса прежних геополитических различий на современную стратификацию, который позволяет сохранить обособленность популяций, либо путем заключения межэтнических браков, когда потомство в социальном отношении относится к одной определенной, а не к другой или какой-то третьей — смешанной — группе. Если этими группами оказываются белые европейцы и черные африканцы, то возможны следующие исходы: все потомство в социальном отношении относится к черным, к белым или к третьей категории наподобие «креолов»; четвертая альтернатива состоит в том, что различие между черными и белыми может просто исчезнуть через несколько поколений и смениться какой-то иной этнонационалистической категорией (например, «американцами»). При таком исходе значение имело бы не количество различных цветов кожи в таком обществе, а выделение или невыделение различий. Соматические различия, некогда считавшиеся важными признаками идентичности, канули в лету. Например, различие между древними римлянами и вестготскими варварами, наводнившими полуостров в 400-х годах Нашей Эры, в конечном счете, перестало служить социальным признаком, хотя сочетание соматических черт, обнаруживаемое в современной Италии, может восходить в своих истоках к этим событиям.
В будущем в мире неизбежно произойдет дальнейшее изменение этнических границ. Количество этнических групп меняется в результате изменения структуры популяций, которое может приводить к исчезновению издавна существующих этнических групп и возникновению новых этнических категорий. Переходный период, во время которого происходит смешение этнических соматотипов, может быть связан с ростом этнического самосознания. В Боснии самые худшие зверства времен этнической войны 1990-х годов совершались в тех областях, где межэтнические браки были широко распространены. Такие конфликты возможны только там, где, во-первых, межэтническими браками охвачены не все и, следовательно, существует группа «пуристов», которая может оказывать давление на тех, кто вступают в такие браки, а, во-вторых, потомство от межэтнических браков не очень велико, поэтому межэтническая семья может в социальном отношении осознаваться в качестве таковой. Контраст становится очевидным при рассмотрении межэтнических браков в Соединенных Штатах среди групп, переселившихся в них в XIX веке. Например, многие семьи создавались в результате браков между англичанами, немцами и скандинавами; хотя их потомки на рубеже XXI века могут знать о своем происхождении, никакой реальной этнической идентификации с кем-либо из этих предков нет или почти нет (Waters 1990). При таких условиях этническая чистка практически невозможна. Три поколения межэтнических браков, по-видимому, стирают прежние этнические границы, если часть всей популяции, вступающая в межэтнические браки, достаточно велика. Немногочисленное меньшинство межэтнических семей всегда сталкивается с угрозой определения его в качестве еще одной смешанной категории.
Сокращение количества очевидных этнических разделений — это одно направление развития. Развитие же в противоположном направлении — увеличение числа соматотипов в регионе — потребовало бы новых источников миграции или новых препятствий для заключения межэтнических браков.
СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ГРУПП
Рассмотрим теперь еще одну макроисторическую сторону формирования этнических общностей. Наиболее легко доступным и обыденным отличительным признаком этнических групп служит языковое своеобразие. Немцы — это те, кто разговаривают по-немецки или эмигрировали из немецкоязычных областей; поляки — это те, кто разговаривают по-польски или чьи семьи некогда разговаривали на этом языке. Этническая общность в качестве языковой группы представляет собой метасообщество, еще более самоочевидное, нежели «воображаемые сообщества» Бенедикта Андерсона, читающие одни и те же газеты или следящие за одними и теми же передачами (Андерсон 2001). Столкновение с теми, кто не могут разговаривать на нашем языке, — это наиболее запоминающийся опыт в повседневной социальной жизни. Этничность — это процесс конструирования социального разделения там, где все, на первый взгляд, кажется незыблемым: и языковые границы, и соматическая наследственность не контролируются индивидом и восходят к такому далекому прошлому, которое кажется уже незапамятным. В действительности, социально сконструированная память коротка и сознательно предвзята. И наша задача как социологов состоит в том, чтобы ставить макроисторические вопросы относительно временных границ создания разного рода групповых различий. Попытавшись разобраться с этой проблемой на примере соматотипов, мы можем теперь поставить вопрос о том, чем определяется количество существующих этнических групп? Что требуется для создания особого языка или того, что общество считает языком, поскольку границы в континууме языковых различий размыты? Следует сосредоточить внимание именно на этой стороне проблемы, потому что по истории языков у нас имеется больше свидетельств, чем по истории соматотипов, популяций или обычаев.
В исторической лингвистике распространенной моделью служит совокупность носителей языка, соответствующая биологической популяции. Социально обособленные языки «дрейфуют»: накопление случайных изменений в одном языке приводит к созданию другого — например, исландский язык был создан в результате дрейфа от других скандинавских языков. И наоборот, языковые группы, которые вступают в контакт на устойчивой границе скрещивания, создают гибридные или «креольские» языки. И эту биологическую аналогию я желаю оспорить или, по крайней мере, дополнить.
Основные детерминанты языковых изменений, оказывающие наиболее сильное влияние на этнолингвистические границы, обычно связаны с геополитикой. Несмотря на то, что государства и этнолингвистические связи развиваются с различной скоростью, между ними существует определенное сходство: сильные государства способствуют созданию языковой однородности, а высоко мобилизованные лингвистические этнические общности борются за автономное государство. Поскольку такое стремление к сближению между государством и языком — всего лишь один фактор среди многих других, сближение происходит лишь в некоторых случаях, хотя и очень важных с аналитической точки зрения. Существование региональных диалектов в языке не противоречит основной цели, но делает более сложным ее достижение. Этнолингвистические идентичности многослойны. Само понятие диалекта, в отличие от отдельного языка, указывает на то, что некоторое языковое изменение считается нормальным в более общей идентичности.
С макроисторической точки зрения, резкое разграничение диалекта и языка носит искусственный характер; оба они принадлежат языковому континууму и, например, голландский язык можно считать диалектом нижненемецкого языка, немецкого языка северного побережья (Sperber and Fleischhauer 1963: 79). Но аналитическое несоответствие этих континуумов, обнаруживаемое в исторической реальности, и четкие категории, используемые социальными участниками для проведения этнолингвистических границ, лежат в основе моей аргументации. Этничность конструируется. Она представляет собой идеальный тип реальной жизни, созданный не учеными, а простыми людьми; и в процессе конструирования этнических идентичностей происходит слияние или обособление. Геополитическая теория различий в этом континууме позволит нам вкратце изложить теорию языковых изменений.
ПРОТОЭТНИЧНОСТЬ И ЭТНОНАЦИОНАЛИЗМ
Представим себе аналитическое пространство. С одной стороны, идеальный тип полностью изолированного сообщества и в языковом, и в демографическом отношении. Но такое сообщество остается только протоэтническим, поскольку изолированные сообщества не осознают, в чем состоит их отличие от других. Самосознание этнической идентичности, которое наиболее ярко проявляется на уровне этнонационализма, связано со вступлением государств в геополитические отношения друг с другом. Этничность — сама по себе тема неясная, так как неясны и исторические процессы, ведущие к ее созданию. Наши аналитические проблемы обусловлены тем, что этничность всегда представляет собой искаженное понятие, попытку приложить чистую категорию к социальной действительности, которая вовсе не является чистой.
Этничность — это конструкция, состоящая из ряда признаков: соматотипы, языки, фамилии, напоминающие о былых различиях, которые могут больше и не существовать, а также другие различия в культуре и образе жизни. Они могут совпадать в особых, тесно связанных общинах. Парадокс этничности состоит в том, что, чем больше такие модели действительно закреплены на местном уровне, тем меньше вероятность того, что они будут иметь большое значение для социального действия. Ведь именно более крупные и неопределенные метасообщества собирают чужих друг для друга людей в категории для совершения политических действий, а также актов дискриминации и проявлений враждебности, выражения сочувствия и оказания поддержки. В этих более крупных этнических метасообществах обобщенное понятие этничности само по себе становится социальной реальностью, создавая в обществе макроподразделения. Причем важно само существование различия, каким бы оно ни было, а не какой-то отдельный отличительный признак. Если же один признак достаточно силен, то другие признаки излишни. Для черных американцев основным опознаваемым обществом признаком служит цвет кожи, а язык и имена не имеют значения. У евреев происхождение передается вместе с именами и религиозной культурой, хотя здесь есть свои сложности. У американцев ирландского происхождения соматические и языковые признаки слишком размыты или связаны с прошлым, чтобы быть значимыми; остаются только имена, постепенно утрачивающие свое значение, а также особые организации, прямо ставящие своей целью сохранение этнического наследия. Но такие сознательно созданные организации искусственны и свидетельствуют о том, что более прочная социальная база этого этнического разделения в значительной степени принадлежит прошлому.
Какой была бы общая теория социального конструирования этничности? Переменной в континууме служит степень конструирования очевидных границ. В таком случае, на одном конце континуума находилась бы примордиальная протоэтническая общность, совершенно изолированная группа: полностью однородная и как популяция, и как языковое сообщество и во всех остальных отношениях. На том конце, где группы никогда соприкасаются друг с другом, нет никакого ощущения различия и, следовательно, никакой этнической мобилизации. Эта картина — плод воображения, потому что реальные сообщества всегда в какой-то степени осознавали свое отличие от соседей. Идеальный тип на другом конце — полная ассимиляция — был бы утопией, совпадающей с примордиальной протоэтнической общностью, божественной целью конца истории, соответствующей изначальному раю. Полная ассимиляция — это миф, поскольку предполагается, что за пределами той области, в которой, наконец, совершилась ассимиляция, не происходит никакого взаимодействия. Полная ассимиляция была бы равнозначна государству без внешних сношений. Этничность значима только при сопоставлении: невозможно существование только одной этнической группы, их всегда должно быть две или больше. В действительности, ассимиляция означает сокращение числа этнических делений, но никогда не предполагает достижения конечной точки.
Степень мобилизации простирается от протоэтничности (минимальное ощущение своего отличия от других групп) через рост группового самосознания до действий по отношению к другим группам. Границы того, что мобилизуется, изменчивы; размер и величина группы конструируются одновременно с ее мобилизацией на политическое действие. Групповая принадлежность определяется с возрастанием взаимодействия этой группы на политической арене с другими группами, которые определяются в тот же момент. Самая высокая степень этнической мобилизации может быть названа этнонационализмом. Это этничность, ориентированная на использование государства в качестве своего инструмента. Этничность не тождественна национализму, поскольку некоторые этнические группы мобилизуются против государства или господства привилегированной, национально легитимной этнической группы. Антинациональную, направленную против государства этническую мобилизацию также вызывает государство — его способность к внутреннему проникновению и его внешнее геополитическое положение по отношению к другим государствам. Этничность возникает вместе с государством. Полномасштабная этническая мобилизация связана со стремлением к государственной автономии. На деле ее успех зависит от геополитической силы государства. Если задача достижения автономии политически нереалистична, то этнические группы могут согласиться на местную или de facto региональную автономию, позволяющую избежать столкновений с государством по вопросам языка, образования и других средств закрепления этнического различия. Даже менее мобилизованные этнические группы, архетипические оседлые хозяйства в удаленных долинах среди гор, находятся на протоэтническом конце континуума и почти не влияют на этническое развитие общества в целом до тех пор, пока не выходят на арену борьбы за место в очереди за национальным признанием 4.
Теория национализма — это подраздел теории этничности 5. Они испытывают влияние одних и тех же процессов. Национализм находится почти на конце континуума; этничность, в ее общепринятом понимании, — занимает срединное положение. К тому же, споры о гражданстве связаны с теоретическими проблемами этнонационального континуума, касаются ли они создания полностью однородного этоса гражданского участия, мультикультурного или терпимого гражданства, отходящего от этнонационализма и пытающегося институционализировать коалицию легитимных этнических идентичностей. Теория национализма служит ключом к теории этничности.
ПРЕСТИЖ ВЛАСТИ И ЭТНИЧЕСКАЯ ЛЕГИТИМНОСТЬ
Рассматривая феномен национализма, Макс Вебер отмечал, что границы государства не совпадают изначально или неизбежно с языковыми, религиозными или этническими границами (Weber 1968: 901–940). Национальная идентичность, утверждал он, создавалась через политическое переживание народом своего государства. В национализме нет ничего изначального, он переживает свои взлеты и падения. Наиболее важное из всех коллективных переживаний, с точки зрения Вебера, всеобъемлюще. Речь идет о военной мобилизации. Французский национализм был выкован, прежде всего, в levee en masse наполеоновских войн; германский национализм, преодолевший провинциальность Kleinstaaterei, сформировался в войне за освобождение от наполеоновского завоевания, которое не случайно упразднило множество второстепенных государств и сделало Пруссию, лидера освободительной войны, центром национальной идентичности.
Веберовская идея согласуется с неодюркгеймовским механизмом эмоциональной идентификации вокруг символов, выкованных во время совместной борьбы. По выражению Вебера, участие в войне не только создает у солдат «общность судьбы». Поскольку война связана с завоеванием, переселением или истреблением, она касается также их семей и прочих гражданских лиц. Чем шире народ участвует в войсках, тем шире распространены национальные чувства 6. Поэтому наиболее сильные формы национального чувства возникают либо в массовых армиях кочевых племенных союзов, либо в современных государствах, глубоко пронизывающих свое население. Слабее всего национальное чувство в государствах, где узкая прослойка аристократов монополизирует оружие и возвышается над массой безоружных простолюдинов. По словам Вебера, любые военные действия с высокой степенью мобилизации позволяют достаточно быстро создать национальное чувство. Во время Volkerwanderung раннегерманской истории или при наборе отрядов викингов и (возможно, по этим примерам) при других переселениях племен создаваемые для этих целей союзы могут привлекать бойцов из многих сплоченных общностей, которые принимают новую идентичность, особенно в случае переселения на значительные расстояния и успешных завоеваний. Я бы сказал, что и современным государствам свойственна та же переменчивость национальных чувств.
Рассуждения Вебера о нации, тем не менее, можно распространить и на этническую общность в целом. Иначе говоря, нация представляет собой ту форму, которую принимает этническая общность, когда в ходе постепенного расширения этнических границ они начинают совпадать с границами государства. Классические высказывания по поводу «ассимиляции» относятся к периоду распространения национализма, и имплицитно предполагается, что основная цель состояла в установлении государственных границ. Веберовские размышления возвращают нас в область геополитики. В конечном счете, суть государства состоит в способности использования им военной силы для контроля над территорией. Ни границы государств, ни их влияние друг на друга не остаются неизменными — геополитика создает правила, определяющие рост и сокращение внешнего влияния государства. Я бы добавил следующее: престиж государственной власти на международной арене влияет на легитимность правителей государства во внутренней политике. Существуют, конечно, и другие внутренние источники легитимности, но в динамике долгосрочных изменений наиболее важным фактором, оказывающим влияние на легитимность, служит внешний престиж власти (Подробнее см.: Collins 1986: 145–166). Наиболее веским доказательством существования этой связи служит революция: революция почти всегда связана с утратой правителями своей легитимности и с расколом в самой элите, а они, в свою очередь, достигают крайних размеров, как правило, в результате геополитического поражения или совокупных последствий геополитического перенапряжения. И наоборот, престиж правителей государства возрастает вместе с военными успехами — даже в отсутствие войны дипломатическое превосходство сильного государства над другими государствами укрепляет легитимность его правителей. Короче говоря, внешняя геополитика влияет на внутреннюю легитимность.
Та же аргументация применима не только к легитимности правителей, но и к легитимности доминирующих этнических групп. Вообще, когда государство сильно в геополитическом отношении, престиж доминирующей в нем этнической группы также высок. И наоборот, в слабом в геополитическом отношении государстве престиж доминирующей этнической группы ослабляется. В сочетании с процессом организации государства и его проникновением в собственное население такие правила позволяют прогнозировать основные изменения в этнической структуре и долгосрочном развитии.
1. ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА И ВНУТРЕННЕЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ СОЗДАЮТ ВЫСОКО МОБИЛИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ.
При таких условиях протоэтническая общность обособленных местных сообществ смещается к концу континуума с более высокой степенью самосознания и способностью к согласованным действиям. Формирование всякого государства — это первый шаг к этнической мобилизации, связанной с совместными действиями в качестве боевой единицы. Степень возрастания этнической мобилизации в этом континууме меняется в зависимости от степени проникновения государства. На одном конце континуума степень проникновения государства минимальна: «слоеное государство» имперских завоеваний, которое получает дань от местных протоэтнических или религиозных общин. И даже здесь этническое единство и сознание могут несколько возрастать вследствие вменения сверху коллективной ответственности за уплату налогов и поддержание внутреннего порядка. Хотя греки, курды и армяне при Османской империи походили на примордиальные идентичности, скорее всего, именно административные практики империи в системе коллективной ответственности и религиозного самоуправления миллетов создали из них более крупные единицы, нежели те, что существовали прежде, или уберегли их от распада или перехода к иным разделительным линиям (Mardin 1997).
Следующее место в континууме занимает структура феодальной аристократии аграрно-принудительных обществ. Непостоянство феодальных союзов, войн и международных уз династической брачной политики препятствует сильной этнонациональной идентификации с государством. Эти антинационалистические влияния, которые в определенной степени противоречили вертикальным требованиям сеньоров к своим вассалам и аристократии в целом к своей прислуге, слугам и крестьянам, приводят к определенной идентификации с региональными этническими общностями. Хотя крестьяне и слуги почти не оказывали непосредственного политического влияния на средневековый французский феодализм, разрастание сети феодальной преданности королю, начавшееся с Иль-де-Франс, стало полюсом притяжения в пространстве этнической идентификации.
Существующий долгое время военный союз с высокой степенью мобилизации может вызывать среди своих членов чувство этнической солидарности даже тогда, когда государственная структура минимальна. Древнегреческие города-государства осуществляли мобилизацию своих местных идентичностей в форме боевых единиц, превосходивших клановую семейственность. Крупные военные союзы у них, например, те, что создавались против персов, расширяли возможности этнической идентификации 7. Военные союзы германских племен в геополитическом вакууме падения Римской империи, специальные объединения мужчин, желавших переселиться на далекие расстояния, которые разрывали семейные узы и брали себе в жены чужестранок, скорее всего, создавали новые этнические идентичности. Об этом свидетельствуют новые черты германских языков, возникшие во время этих военных миграций (Borkenau 1981). Эти примеры показывают нам, что никакой прямой эволюции от протоэтничности к современному этнонационализму не было. Иногда сильная этническая идентификация с государством может происходить и в отсутствии некоего подобия бюрократического проникновения в общество, если народ на долгое время оказывается занят войной. С наступлением мира или при демобилизации значительной части населения, становящейся подчиненным военной аристократии крестьянством, широкая этнонациональная идентификация может распадаться или возвращаться на более низкий уровень мобилизации.
Наконец, существует современный процесс государственного проникновения. Бюрократическая экспансия государства, особенно с начала XIX века, способствовала развитию государственного образования, экономического регулирования и социального обеспечения, а также физической инфраструктуры транспорта и коммуникаций. Индивиды становились гражданами государства, их имена вносились в документы об исполнении воинской повинности, налогообложении, обязательном образовании, здравоохранении и выплате пенсий, в паспорта и разрешения на работу. Происходило создание общенациональной культуры, которая добиралась даже до спальни. Уоткинс (Watkins 1991) показывает, что после 1870 года модели рождаемости в браке, отношения к незаконнорожденным и заключения браков становились все более схожими в отдельных регионах европейских государств. Там, где прежде в государствах наблюдалось огромное разнообразие, различия в сексуальном поведении теперь проходили по государственным границам. Проникновение государства вело к установлению связей с центром поверх связей местных домохозяйств, соседских общин и производств. Непредвиденным последствием стала возможность беспрецедентной по своим масштабам мобилизации народа в социальных движениях и политическом действии. В результате проникновения государства возник целый ряд движений и сформировались идентичности, которые прежде находись в латентном состоянии или не существовали вовсе: классовый конфликт, этническое самосознание, национализм и, в конечном итоге, феминизм и множество движений, озабоченных решением узких проблем (Mann 1993; Tilly 1995).
Решительным шагом к резкому очерчиванию внешних этнолингвистических границ при одновременной внутренней гомогенизации стало создание стандартного национального языка. На рубеже XIX века около 40% французских подданных разговаривали на региональных языках или диалектах, отличных от французского языка, на котором говорили в районе Парижа. В результате целенаправленной правительственной политики, распространения школьного образования и интеграции посредством национального транспорта, коммуникаций и торговых сетей к 1920 году такое языковое многообразие заметно сократилось (E. Weber 1976; Watkins 1991: 162–163). Таков типичный процесс государственно-центрического создания идеального типа этнонациональной идентичности, перехода по континууму от большего к меньшему количеству этнолингвистических групп. Он также связан с одновременным переопределением привычных границ, укреплением границ между группой «французов» и теми, кто к ней не принадлежат, формой этнонациональной мобилизации. Степень этнолингвистической однородности и сила этнонациональной идентичности зависят от способности государства пронизывать свое население и выводить его на единую национальную арену.
Даже крайние проявления проникновения государства могут оказаться безуспешными при создании единой этнонациональной идентичности в границах современного государства. Вместо этого может быть создано пространство мобилизации этнических групп на борьбу друг с другом за определение того, чья культурная идентичность станет легитимным ядром нации; либо за институционализированные отчисления, куски национального пирога; либо за местную автономию; либо даже за восстание и отделение от существующего государства. И государство не обязательно остается неизменным с территориальной точки зрения. Даже государства с высокой степенью внутреннего проникновения могут объединяться или делиться под влиянием геополитических процессов. Наряду с процессом проникновения государства нам также следует рассмотреть три геополитические модели.
2. ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА ВНЕШНЕЙ АРЕНЕ ПОВЫШАЕТ ПРЕСТИЖ ВЛАСТИ ДОМИНИРУЮЩЕЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ВНУТРИ ГОСУДАРСТВА.
Чем выше геополитический престиж власти, тем успешнее государство пронизывает свое собственное население при введении институтов национального политического участия и культурной коммуникации. Влиятельное с геополитической точки зрения государство лучше способно ассимилировать региональные и иные протоэтнические общности в национальный язык, установить единый стандарт образования и иные аспекты единообразной государственной культуры 8. Имеющиеся у нас примеры свидетельствуют о том, что создание национальной культуры, скажем, в Британии XIX века происходило не только при наличии национального экономического рынка и складывании институтов транспорта и коммуникации, но и при наличии высокого геополитического престижа государственной власти. В отсутствие такого престижа национальные институты становились ареной этнического противоборства, а не этнического объединения 9.
Менее выраженную разновидность того же процесса можно наблюдать в государствах античности и средневековья. В отличие от современных бюрократических государств, они почти не способны были пронизывать общество; тем не менее, со временем сложилась определенная степень языковой однородности. Несмотря на наличие сходства в этом процессе, в бюрократическом государстве он протекает быстрее. То, что римляне сделали с этрусками 10, вероятно, за шесть поколений, послереволюционное французское государство сделало с бретонцами за три. Лучше говорить об этом как о языковом влиянии, процессе превращения языка основного региона или правящего класса в этом регионе в легитимно доминирующий язык и определяющий признак полноправного членства в сообществе (de Swaan 1988). До 270 года до Нашей Эры Италия была регионом, где существовало множество различных языков (хотя из них нам хорошо известны только латинский и этрусский). Под властью римского государства этруски исчезли, хотя потомки этрусков выжили и влились в популяцию (Stolz and Debrunner 1966). В греческих поселениях эгейцы, дорийцы, ахейцы, эолийцы и другие считались отдельными этнолингвистическими группами. Распространение греческих колоний от Черного моря до Греции в 700–500 годах до Нашей Эры должно было привести к заметному смешению этнических групп и снятию границ с другими этническими общностями. Все изменилось, когда после создания политического союза против персов произошло разделение на «греков» и негреков («варваров», тех, чей язык напоминал урчание). Затем под влиянием Афин, которые играли роль военного гегемона и культурной столицы, на основе аттического (диалект афинской области) был создан стандартный или образцовый греческий язык. Дальнейшие политизация и распространение греческой этнолингвистической идентичности были связаны с македонским завоеванием Ближнего Востока и политикой эллинистических государств, управлявшихся колонистами, которые жили в похожих на греческие городах во всем завоеванном регионе. Культурно-лингвистическая идентичность становилась политической независимо от того, были ли жители этих городов греками по происхождению или нет. В действительности, сами македонцы считались ненастоящими греками или полуварварами до тех пор, пока они не обрели такого военного влияния.
Такой была основная динамика, приведшая к созданию крупных языковых областей в различных частях света. Письмо в Китае было стандартизовано первой крупной династией Хань, объединившей путем завоевания множество враждующих государств (Fung 1952). Тогда же, вероятно, был стандартизован и язык высокого статуса. Показательно, что в китайском языке для обозначения собственной этнической группы используется слово «хань» — название первой династии, установившей господство в основных населенных областях между пустыней Гоби и Южно-Китайским морем 11.
Поскольку границы этнических общностей могут частично совпадать с границами государств, геополитический престиж власти также оказывает влияние на тенденции идентификации в мегаполитических группах. В результате имеет место либо стремление к объединению членов одной этнической общности, обладающей высоким престижем, в особое политическое сообщество, либо сопротивление такому объединению. Таков источник панэтнических движений за объединение в максимально возможных этнических границах. В основе панславизма лежало повышение престижа власти Российской империи на протяжении XIX столетия. К тому времени российское государство накопило людские и территориальные ресурсы, которые сделали его армии значительно более сильными, чем у его непосредственных соседей. После утраты геополитического влияния австрийской и турецкой империями на юго-западе дальнейшее расширение России казалось неизбежным с геополитической точки зрения 12. Панславизм обеспечивал идеологию для этой сферы влияния и узаконивал дальнейшее продвижение русских; другим же славянским народам сближение с Россией позволяло считать престиж последней своим собственным. Панславизм также играл заметную роль во внутрироссийских спорах с западниками, ставившими перед собой задачу внутренней модернизации России по европейскому образцу. Западники были идеологическим движением, которое прилагало усилия по проникновению современного государства в российское обществопанслависты выступали против принижения национального величия, связанного с этой зависимостью от внешних моделей. Нам не следует рассматривать панславизм глазами западников, которые считали его реакционной романтизацией славянского народа и неприятием модернизации. Панславизм был движением, отвечавшим современной обстановке, превращению России в великую державу на мировой арене. Панславизм был идеологией, которая не только утверждала культурную независимость и превосходство России, но также легитимировала дальнейшее геополитическое расширение государства и обосновывала присоединение к нему слабых государств славянской зоны.
Пангерманизм так же был геополитическим движением и выступал за рост этнического самосознания немцев, будучи четко ориентированным на немцев, проживавших за пределами империи, которая была создана под предводительством Пруссии во время войн 1864–1871 годов. Пангерманское движение достигло вершины в своем развитии в 1890-х годах, когда Германия включилась в международную гонку вооружений и с опозданием начала приобретать заморские колонии. То есть возникновение идеологии совпадало по времени с превращением Германии в полноценного участника соперничества, определявшего престиж великих держав. Пангерманизм не был исконным чувством; после распада средневекового Рейха о нем долгое время ничего не было слышно. Он постепенно накапливал свои силы вместе с усилением крепкого немецкого государства — Пруссии — в XVIII веке. Культурное определение особого Volk в сочинениях Гердера 1770–1780-х годов произошло в прусской зоне северной Германии и сопровождалось расширением занятых потреблением культуры слоев. Германский этнонационализм возник вследствие сочетания двух основных процессов: начала первого серьезного институционального проникновения государства в общество и повышения геополитического престижа единого германского государства после длительной эпохи раздробленности и слабости, когда культурный престиж Германии был невысок. Пруссия стала центром германского национализма не потому, что германская культура изначально была милитаристской и «прусской», а потому, что она была геополитическим ядром, вокруг которого было построено единое государство.
Показательно сравнение с Австрией. Австрия была геополитической звездой среди немецкоязычных государств в XVI—XVIII веках, но она отличалась от Пруссии в двух отношениях: она была империей, в которой сосуществовало множество различных культур; и к XIX веку ее геополитическое положение ослабло. Первоначально Австрия занимала выдающееся положение, будучи ответвлением династической габсбургской империи и пользуясь престижем испанской державы; позднее Австрия открыто включила этническую идентичность своих союзников из венгерской аристократии в свою официальную структуру 13. Хотя и в Пруссии/Германии, и в Австрии в результате прошлых завоеваний проживало население, не говорившее на немецком языке, — польские славяне и местечковые евреи в первой и многие другие славянские и балканские этнические общности во второй, — геополитическая экспансия Пруссии была направлена главным образом на области с немецкоязычным населением. Прусская экспансия также происходила одновременно с мобилизацией институтов элиты, занимавшихся созданием культуры: распространением государственного начального и среднего образования, начавшимся в северной Германии в 1700-х годах, и проведением академических реформ в немецкоязычных университетах после 1810 года, создавших единый рынок академических профессий 14. Институты культурного проникновения государства и престиж геополитической экспансии способствовали созданию сильного этнонационализма в Германии под предводительством Пруссии. Австрия, напротив, расширялась в основном в зону, где проживало население, не говорившие на немецком языке, и столкнулась с более сложной задачей внутреннего проникновения государства после ряда геополитических потрясений: поражений от союза Франции и Пьемонта в 1859 году и Пруссии в 1866 году, завершившиеся для Австрии утратой Ломбардии и Венеции в пользу Италии, в которой тогда развернулся процесс национального объединения; и угрозы российской экспансии на востоке, которая способствовала этническому расколу на Балканах. Геополитическую слабость не смогло восполнить и получение Боснии от ослабшей Османской империи после ее поражения от России в войне 1877–1878 годов и последующего раздела ее балканских территорий (McEvedy 1982: 34). Два источника государственной слабости накладывались друг на друга. Слабый австрийский аппарат проникновения государства извлекал все меньше средств, необходимых для ведения военных действий, что подорвало его геополитическое положение и способствовало дальнейшему усилению местного противодействия централизованному проникновению государства.
Пангерманизм 1890-х годов был идеологией, которая основывалась на развернутой германским государством экспансии. Он позволял немецкоязычному населению, проживавшему в негерманских государствах Центральной Европы, надеяться на вхождение в престижное государство, которое было ведущей мировой державой. Их надежды усиливались по мере разрушения другого суверенного государства: сначала Австро-Венгрия пошла на уступки местным автономиям, которые установили во многих районах с немецкоязычным населением местную власть, осуществлявшуюся негерманскими этническими институтами, а затем в начале XX века Австро-Венгерская империя распалась на несколько слабых государств. Опасный этнонационализм нацистской внешней политики довел пангерманизм до крайности. Вместо того чтобы считать пангерманизм изначальной культурной позицией Германии, следовало бы принять содержание идеологии за основу его изучения 15. Идеология пангерманизма служит иллюстрацией универсального процесса: геополитическое влияние создает идеологию этнического престижа — успехи порождают ожидание дальнейших успехов, что способствует развертыванию милитаристской политики и более широкому определению этнического сообщества, возглавляющего растущее государство.
3. ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СЛАБОСТЬ ГОСУДАРСТВА ОСЛАБЛЯЕТ ПРЕСТИЖ ДОМИНИРУЮЩЕЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ, ОТОЖДЕСТВЛЯЕМОЙ С НИМ.
Если геополитические противоречия оказываются серьезными, то распад государства влечет за собой разрушение этнонациональной идентичности. Распад Римской империи привел к созданию отдельных этнолингвистических блоков Южной и Западной Европы, а распад Каролингской империи заложил основу различий между французской, немецкой и итальянской идентичностями. Возрождение воинственных этнонациональных идентичностей после распада СССР и Югославии в 1990-х годах соответствует общему принципу. Этническую борьбу на местном уровне не следует считать продолжением давней этнической ненависти. Этническое сознание переменчиво именно потому, что резким переменам подвержена и геополитика. Перемены могут быть связаны как с усилением, так и с ослаблением партикуляристской мобилизации. Сильное в геополитическом отношении государство демобилизует фрагментарные этнические идентификации, тогда как с исчезновением геополитических преимуществ фрагментация возрастает.
Если объединение государств влечет за собой языковое единообразие, то распад государств приводит к языковой дифференциации. Появление романских языков относится ко времени распада Римской империи. Помимо территории самой Италии 16, говорящим на латинском языке населением (одни его представители были итальянцами по своим этносоматическим признакам, другие — нет) были колонизированы земли, жители которых говорили на испанском, французском, румынском и многих других языках. Завоевания германских племенных союзов привели к значительным изменениям, которые завершились формированием узнаваемых версий существующих национальных языков. Изменения произошли не только в фонологии, но и — что самое удивительное — в синтаксисе. Грамматика романских языков освободилась от многих окончаний и сложного словообразования, придававших латинскому языку его особую остроту и свободу в построении предложений. На смену им пришли редуцированные окончания и более аналитические и словоразличительные формы (Kroeber 1963: 50–51; Сепир 2001: 158–160). Однако в словаре сохранилось множество элементов латинских слов. И задача макроисторической социологии языка состоит в объяснении того, почему резким изменениям подвергся именно синтаксис, основная несущая конструкция языка, тогда как обычно незначительные изменения происходят именно в фонологии и словаре (Aitchison 1991). Складывается впечатление, что дрейф языка происходит более медленно, но постоянно, а резкое изменение языка вследствие внезапного геополитического кризиса приводит к глубоким языковым разрывам 17. Разобраться в этом вопросе помогает схожий процесс языковой дифференциации, который переходит от устойчивых линий противоборства или противодействия к геополитическому объединению, сохраняющемуся в течение длительного времени. Принято считать, что наибольшее языковое разнообразие наблюдается во внутренних областях Новой Гвинеи, племенной Северной Америке, бассейне Амазонки, сахельской зоне между Сахарой и бантуязычными землями на юге Африки (Kroeber 1963: 22–24; Whitney 1979: 242–245, 256–258). Здесь языки обнаруживают огромное многообразие в структуре, хотя некоторые исследователи пытаются доказать общее происхождение многих групп, проживающих в этих областях, приводя в качестве доказательства фонетические корни (Greenberg 1987). Огромное множество языков сосуществует также на относительно небольшой территории Кавказа. В чем же причина того, что на этих территориях произошло такое взаимное удаление языков друг от друга, особенно в том, что касается структурных особенностей их грамматики? Ответ на этот вопрос, по крайней мере отчасти, связан с геополитикой.
Наибольшее языковое разнообразие наблюдается в областях с частыми столкновениями или межплеменной враждебностью, которая, тем не менее, не ведет к завоеваниям и возникновению больших и устойчивых государств, способных уменьшить языковое многообразие. В обществах, не имеющих государства, основным фактором, образующим особую племенную идентичность (в отличие от более определенных родственных, религиозных или политических групп в племени) служит язык (Elkin 1979: 56–58). Здесь языковое различие одновременно способствует установлению и ограничению групповой идентичности. Горная местность Новой Гвинеи — территория, которой, по словам Кребера, свойственно «поразительное речевое разнообразие» (Kroeber 1963: 23), — была также одной из основных областей распространения каннибализма и охоты за головами, а исключение в ней было настолько сильным, что врагов, по сути, не считали людьми. То же касается и бассейна Амазонки. Точно так же в Северной Америке во время племенного периода «почитаемая» форма ритуального насилия поддерживала взаимосвязанные цепочки вражды, не позволявшие захватывать территории или полностью истреблять соперничающие группы. Кавказ также соответствует этой геополитической модели, так как исторически в силу суровой горной географии и своего промежуточного положения между двумя соперничающими империями он оставался разобщенной буферной зоной.
Согласно этой гипотезе, структурирование языков врагов происходило не в результате прямого подражания и заимствования, а в результате противопоставления. В каждом из этих языков развивались структурные формы, отличные от тех, что существовали в языке врага. Гипотеза подтверждается тем, что известно о последствиях внешнего контакта между иностранными языками (Kroeber 1963: 42). Такие области контакта способствовали особенно быстрым языковым изменениям, но изменения происходили не в результате подражания или заимствований из чужого языка. Из нескольких генетически родственных языков сильнее всего меняются именно те, что находятся на территориальной границе и вступают в контакт с совершенно иными языковыми группами. Кребер предположил, что знание о существовании различных форм грамматики способствует развитию изменений в собственном языке. В результате, дрейфа языка вдоль границ контакта не происходит, хотя контактирующая группа все более отдаляется от других родственных групп, находящихся вдали границы контакта. Такие изменения вызывают развитие в новых направлениях. Этим объясняется, почему у жителей Сахеля, пограничной зоны между семито-хамитскими языками на севере и языками банту на юге, оказалось огромное множество собственных языков, отличающихся от языков внешних групп и друг от друга. Носители языка действуют так, чтобы как можно сильнее отличаться от тех, кого они считают своими врагами. Процесс этот не встречается только в племенных обществах и в архаические эпохи. Лабов и Харрис (Labov and Harris 1986) приводят свидетельства того, что негритянский английский наиболее отчужденных частей черных гетто больших американских городов отличается от стандартного английского. Причем отличия существуют в синтаксисе, а не просто в произношении и словаре, что говорит о глубине социального конфликта и окончательного отчуждения. Сегрегация места жительства в сочетании с бедностью создают очень устойчивую культурную обособленность по расовому признаку (то, что было названо мной концом континуума этнической обособленности) (Massey and Denton, 1993). С точки зрения Лабова, эти примеры отражают общий механизм языковых изменений (Labov 1972; см. также: Aitchison 1991) 18. Возможно, именно этот механизм, действовавший в отношениях между готскими завоевателями и некогда господствовавшими римлянами, вызвал резкие изменения в синтаксисе между латинским и романскими языками.
Рассмотрим некоторые возможные исключения из этого общего правила. Почему итальянская этническая идентичность не исчезла за время длительного периода разобщенности? Согласно гипотезе, крупные города-государства должны были создать отдельные этнические идентичности со своими «итальянскими» культурами, отличающимися друг от друга и, возможно, построенными на основе этрусской (тосканской), ломбардской, венецианской и других культурных идентичностей. На мой взгляд, этому препятствовали два процесса: один — культурный, другой — геополитический. В эпоху Возрождения и последующие столетия сохранению единой итальянской идентичности способствовал общеевропейский престиж культурных институтов, распространенных на всем полуострове. Именно в итальянских городах-государствах развивались новаторские направления в живописи и других искусствах. Из-за относительно небольшого размера местных городов рынок покровительства художникам должен был принять вид единой сети. Самые заметные и престижные культурные институты считались «итальянскими», потому что наиболее знаменитыми итальянцами были художники, переходившие от одного заказчика к другому во Флоренции, Милане, Риме и других городах 19.
Кроме того, итальянская геополитика обеспечивала ниши для этнической идентичности. Именно благодаря особому положению Италии, служившей буферной зоной между большими империями, было возможно существование итальянской этнической идентичности. Сохранению этой идентичности способствовала постоянная борьба за передел сфер влияния в Италии между Францией и Испанией, а также в какой-то мере Австрией; то, что вторгавшиеся государства сводили на нет усилия друг друга, было предопределено геополитикой. Кроме того, папство действовало не только в качестве престижнейшего покровителя художников, но и в качестве геополитического центра притяжения для итальянской этнической общности. Элита городов-государств, подобно Медичи во Флоренции, расширяла сферу своего влияния, выдвигая из своего числа кардиналов и римских пап, использовавших церковь в качестве заменителя территориальной экспансии, которой препятствовали местные власти и присутствие Франции и Испании. Если бы итальянский полуостров не был местом рождения папства, итальянской культурной идентичности, скорее всего, не удалось бы сохраниться и превратиться в XIX веке в полноценный этнонационализм 20. Еще одно явное исключение — сохранение этнической идентичности после исчезновения государства — только подтверждает общее правило.
Польская идентичность сохранилась и после исчезновения польского государства в результате нескольких разделов между Россией, Германией и Польшей в 1772 и 1795 годах и была восстановлена через четыре поколения в 1919 году. Дело не в том, что этнолингвистические идентичности нерушимы, а в том, что они подчиняются макроисторическим закономерностям. Разделение поляков между несколькими различными национальными государствами (включая зарубежную польскую диаспору в Соединенных Штатах и других странах), вероятно, замедлило процесс языковой ассимиляции. Различия в степени подавления или ассимиляции языка в различных странах позволили выжить большинству людей, стремившихся сохранить этническую идентичность. Согласно геополитической гипотезе, польская этническая общность исчезла бы быстрее, если бы Польша была поглощена только одним государством, а не несколькими. «Балканизация» — подходящее название для перехода по континууму от этнонационализма существующего государства к этническому сепаратизму.
Резкость и воинственность перехода по этому континууму соответствуют степени геополитического напряжения. Масштабное геополитическое потрясение, распад империи, открывает путь к масштабным этническим расколам и даже созданию множества новых этнических общностей там, где прежде существовала только одна. Меньшим степеням геополитической слабости соответствуют свои степени этнического самосознания и сопротивления. Османская и в какой-то степени Австрийская империи более века были «больными Европы» и знали об этом. Поэтому они оказались регионами, в которых местные протоэтнические общности стали выражать свое недовольство. В зонах, которые слабо контролировались империей, этнические националисты стремились создать свое государство. В других областях, где все еще сохранялся надежный военный контроль, происходила мобилизация движений за этническую автономию или, в случае неудачи, за этнонациональный контроль над культурными институтами наподобие официального языка и образования. Последние движения усиливались вместе с ростом проникновения государства, но в этом случае проникновение не только не вело к усилению централизации государства, но, наоборот, влекло за собой ее ослабление, создавая тем самым пространство для мобилизации недовольных этнических общностей.
4. ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ СИЛ СПОСОБСТВУЕТ КОСМОПОЛИТИЗМУ.
Иногда геополитическая обстановка в течение длительного времени остается стабильной, а влияние распределяется среди множества государств примерно одинаково. Целью союзов и дипломатических усилий становится недопущение военного превосходства какого-либо государства над остальными. В этих обстоятельствах престиж государственной власти остается стабильным, но качество его меняется. Войны, как правило, ведутся по правилам «джентльменского» или «рыцарского» сражения: никто не рассчитывает на большие завоевания, а потери, как правило, невелики. В этом случае, этнонационализм утрачивает свое значение. Этому способствуют несколько процессов. Война считается развлечением элиты: в ней участвует относительно небольшая доля населения и она почти не влияет на его жизнь. Смена правления не имеет решающего значения, а военное положение затрагивает общество только поверхностно, а не пронизывает его. Эмоциональная мобилизация, вызванная массовым участием или кровавым завоеванием, отсутствует, поэтому этот путь к этнонациональной идентификации исключен. Кроме того, практика смены союзников с целью поддержания равновесия сил делает этнические идентичности размытыми и поверхностными, что соответствует правилу о том, что этнические общности создаются путем отделения и противопоставления себя тем, кого они исключают. Когда военные враги и союзники меняются каждые несколько лет, сознание своего места в этническом порядке мира оказывается намного слабее, чем тогда, когда продолжительное геополитическое соперничество создает этнонациональный космос.
Наиболее заметной особенностью повседневной жизни государственной элиты, особенно военных, дипломатических и политических правящих кругов, служит космополитическое взаимодействие с представителями иных этнических общностей. Такому взаимодействию способствует существование Lingua Franca, важного инструмента дипломатического дискурса. Этот космополитический язык отличается от пиджин, который возникает для облегчения коммерции в торговых зонах. В отличие от таких грубых и упрощенных в утилитарных целях языков с низким социальным престижем, космополитический язык обладает высоким престижем и отражает социальное превосходство. Во время войн за установление равновесия сил конца XVII—XVIII веков французский язык и культура стали считаться во всей Европе показателем благовоспитанности. Обладание идеалами Просвещения, утонченностью и здравомыслием, означало причастность к элите, способной осуществлять сложное взаимодействие в мире международных связей. В космополитических кругах местные обычаи презирались как провинциальные, а отдельные этнические идентичности, например русская или немецкая, сознательно недооценивались. По иронии судьбы этот космополитизм возник именно тогда, когда государственная бюрократия начала проникать в культурную жизнь соответствующих национальных обществ. Соседство космополитизма и бюрократического проникновения означает, что геополитика служит главной переменной, определяющей характер проникновения государства или, по крайней мере, оказывающей на него существенное влияние. Начавшись, эти процессы уже не могли остановиться. Распространение дипломатических сделок и межгосударственных союзов потребовало, чтобы представители элиты много путешествовали и даже какое-то время работали в органах управления союзнических государств. Отдельные представители космополитического класса почти утратили изначальное подданство, переходя из одного государство в другое и занимая высокие посты в армиях и правительствах государств, где они были чужаками. К этому классу принадлежали выдающиеся министры, например, Ло и Неккер во Франции и Шарнхорст и фон Штейн в Пруссии. Иностранные правительства приглашали генералов к себе на службу со времен Лафайета и Штойбена во время Американской революции до «китайского» Гордона во время восстания тайпинов, не говоря уже о мечущихся оппортунистах наподобие Конде во Франции и Испании XVII века. В отличие от высоко мобилизованных этнонациональных идентичностей в государствах XX столетия, тогда наличие национального гражданства не было обязательным условием для государственной службы даже на самом верху.
Этот космополитизм следует связывать не с простой нехваткой глубокого проникновения государства в общество и соответствующего чувства национальной идентичности, а, прежде всего, с геополитической обстановкой. Трансэтнический космополитизм существовал в исторических условиях, которые различались по степени государственного проникновения, но имели одну общую черту — геополитическое равновесие сил. Латинский космополитизм преобладал в позднем средневековье, но с началом объединения сильных государств в Англии, Франции и Испании уступил место национальным языкам, прежде всего, благодаря действенной национализации церковной собственности и, соответственно, средств культурного производства. Культура французского Просвещения сохранила свой престиж во время обсуждения условий заключения союзов и после окончания религиозных войн, когда равновесие сил стало явным идеалом. Поскольку в Индии региональные языки возникли в раздробленных королевствах после исчезновения нескольких относительно крупных империй древности (Маурьев и Гуптов), слабость этих государств делала возможным существование элитарного слоя носителей высокой культуры, сохранявшего санскрит и его литературу, несмотря на местное своеобразие.
Возможность трансэтнического космополитизма всегда следует учитывать при анализе, и космополитические эпохи вполне могут повториться в будущем. Предположим, что сейчас наступает (или уже наступила) эпоха, когда ни одно национальное государство не в состоянии совершить геополитический прорыв, а элита начинает действовать в нечетких союзах и международных сетях. Согласно этой гипотезе, сама идея этнонационализма оказывается неприемлемой, по крайней мере, для элиты, которая старается избегать заявлений о превосходстве собственной культуры. В заключительном разделе этой статьи будет выдвинуто предположение о том, что «мультикультурализм» и «политическая корректность» конца XX столетия могут быть современной разновидностью трансэтнического космополитизма в особых условиях геополитического ослабления и этнической мобилизации на уровне неэлиты.
АМЕРИКАНСКИЙ ВОПРОС: АССИМИЛЯЦИЯ ИЛИ ЭТНИЧЕСКИЙ ЗАСТОЙ?
Американские исследования этничности в основном были сосредоточены на вопросе ассимиляции, который в прошлом рассматривался в положительном, а в последнее время в отрицательном ключе. Этнические отношения, которые, как когда-то казалось, неизбежно развивались в направлении ассимиляции, теперь, по мнению многих, статичны в своей основе. В социологии изучение этнического и классового воспроизводства стало поощряемым (и, по крайней мере, в том что, касается первого, морально привилегированным) занятием. Концептуальный континуум этнических изменений заметно сократился. Теория ассимиляции объясняет, каким образом происходит расширение этнических границ; теории антиассимиляции довольствуются демонстрацией устойчивости этнических границ. Без внимания остается огромный контекст, который определяет перемещение в том или ином направлении по континууму этнических делений между высоким или низким числом расколов. Беглое рассмотрение вопросов ассимиляции и антиассимиляции связано с необходимостью демонстрации того, каким образом они вписываются в более широкую геополитическую динамику. На мой взгляд, мезодинамика этнического воспроизводства и противоборства краткосрочна и неодинакова по своей силе; в одних геополитических обстоятельствах она усиливается, а в других ослабляется.
В основе классических теорий ассимиляции лежало предположение о том, что этнические группы существуют изначально, а затем уже вследствие географической регионализации начинается процесс ассимиляции. Таким было положение в догосударственных и аграрно-принудительных (феодальных/изымающих) обществах. В эволюционной модели выделялись этапы соприкосновения, временного противоборства, приспособления и ассимиляции; изменения вызывались развитием рыночной экономики, разделением труда и урбанизацией, которые разрушали региональные границы и запускали процесс ассимиляции в какие-то крупные группы. То, что этот процесс часто происходил именно так, подтверждается множеством свидетельств (о последнем времени см.: Waldinger 1996; о рубеже XX века см.: Lieberson 1980). Однако, как показывает опыт аграрного завоевания, рыночные структуры могут развиваться и при сохранении более узких этнических границ или, по крайней мере, при очень медленном движении по направлению к ассимиляции в большие группы. Парсы в Индии, «королевские евреи» в средневековой Европе и ганзейские немцы на Балтике — вот лишь некоторые примеры из множества этнических анклавов, существовавших в торговых и административных центрах. И даже в индустриальных обществах сложное разделение труда и обмен могут вести к усилению этнической обособленности. Прежнее региональное этническое разделение, существовавшее в сельской местности или до переселения, может воспроизводиться в расположении коммерческих предприятий и сегрегации в местах проживания. Этнические группы могут создавать профессиональные анклавы при разделении труда — тенденция, крайним проявлением которой служит индийская кастовая система. Одно время социологи полагали, что этническое разделение труда было свойственно лишь доиндустриальным и добюрократическим обществам, но современные общества подтверждают, что оно может существовать в любой известной форме экономики. Этническое разделение труда осуществляется благодаря появлению на рынке труда высоко- и низкооплачиваемых секторов и обособлению отдельных рынков вследствие создания профсоюзов, этнических кредитных ассоциаций, монополизации привилегированными этническими группами или «расовой» дискриминации (Bonacich 1972; Hechter 1974; Portes 1994; Light and Karageorgis 1994; Olzak 1992).
Нашей целью должно быть не простое описание того, какой должна быть степень этнической сегрегации, чтобы она в каждом отдельном случае приводила к разделению труда, а объяснение причин различий в моделях. Любая историческая обстановка — это результат равновесия противоположных тенденций различных сил. Разделение труда и структуры административной централизации могут оказывать совершенно противоположное влияние на континуум этнических границ. С одной стороны, всякое соприкосновение и взаимодействие различных этнических групп может вызывать ассимиляцию, ведущую к стиранию этнических границ. Пока народы сближаются, всегда возможно формирование общей культуры, развитие нового языка или диалекта, установление дружеских связей и заключение браков, а также создание единого фронта в борьбе против народов, которые им не близки. Осуществление этого потенциала к ассимиляции или, наоборот, усиление ощущения границ зависит от того, какая из тенденций окажется сильнее — тенденция к ассимиляции без границ или тенденция к вражде. Эти тенденции определяются степенью связи престижа с участием в общей культуре, легитимируемой государством.
Последствия стратификации всегда очень похожи. Нам прекрасно известны процессы, которые позволяют стратификации усиливать этническую сегрегацию. Различия в классовых культурах дополняются различиями в этнических культурах (а иногда и создают их), и наоборот. Социологами описано множество таких взаимосвязанных процессов: в современных Соединенных Штатах материальные различия между окраинами и центральной частью города воспроизводятся в определенных моделях семьи, образования и сознания, которые, в свою очередь, усиливают различие между черной «уличной» и буржуазной белой культурой; круг замыкается в профессиональной стратификации и закреплении материального неравенства. У Бурдье габитус представляет собой теоретическое описание самовоспроизводящихся механизмов. Изучение таких самозакрепляющихся моделей стало визитной карточкой американских социологов. Однако, с аналитической точки зрения, стратификация не обязательно приводит к установлению статических этнических границ. Она может также вызывать тенденции к культурной ассимиляции. Стратификация наделяет престижем культуру господствующего класса, которая зачастую распространяется на средние и подчиненные классы путем подражания, просачивания и навязывания ее институтами, занимающимися созданием культуры.
Если классовая стратификация сопровождается этнической стратификацией, такие процессы могут вызвать ассимиляцию этнических культур. Кроме того, стратификация может пробуждать стремление к вертикальной мобильности. Если происходит повышение статуса подчиненных этнических групп в классовой структуре или постепенно вливание их в централизованные организации экономики и государства, то структурное объединение групповых границ приводит этнической ассимиляции 21. И наоборот, можно ожидать, что тенденция к ассимиляции будет слабее всего там, где соприкасающиеся этнические группы равны и по классовому положению, и по престижу. Проблема в том, какая тенденция сильнее — тенденция стратификации к укреплению этнических границ или противоположная тенденция к ассимиляции. И вновь все зависит от геополитического престижа данной власти и, следовательно, этнической культуры ее правителей. Значительное внимание уделялось также отношениям между экономическими интересами и этническим антагонизмом. Мобилизация этнического антагонизма зачастую связывалась с основными экономическими противоречиями. Поскольку этнические группы создают анклавы при разделении труда и в классовой структуре, всякое изменение экономического положения этих групп мобилизует классовый конфликт, который чаще всего проявляется в форме этнического антагонизма. Например, антисемитизм, почти не встречавшийся в христианской Европе до XI века, проявился в 1100-х годах в жестоких нападениях на евреев сначала в Рейнланде, а затем и в Восточной Европе. Этот антисемитизм объяснялся распространением коммерческой экономики, на переднем краю которой находились евреи, зачастую в союзе с центральными правителями, что делало антисемитизм подходящей идеей для сплочения традиционалистских классов, крестьянства и знати (Murray 1978: 69). Схожие структурные модели обнаруживаются также в общинах грузинских евреев и других этнических групп Кавказа, которые поддерживали свои собственные неформальные экономики при советском коммунизме (Portes 1994). Мобилизация этнических антагонизмов в анклавах при разделении рабочей силы на всем протяжении мировой истории не была одинаковой, а во многих случаях она и вовсе не происходила. Готовность принять участие в этническом конфликте — это только одна из нескольких причинных сил, которая может быть уступать место другим, более сильным. Наиболее важным причинным условием, наряду со степенью проникновения государства, служит связанный с геополитикой престиж власти правителей государства.
«АМЕРИКАНИЗАЦИЯ» И «БАЛКАНИЗАЦИЯ»
Кратковременные процессы в разделении труда, этноклассовой стратификации и культурной мобилизации имеют неопределенные последствия: они могут способствовать либо этническому обособлению и противоборству, либо стремлению к ассимиляции — прежде всего, в культурном, но также и в ассоциациональном и соматотипическом отношении. Какие именно из них будут иметь место, зависит от контекстуальных условий и, прежде всего, от геополитической направленности развития государства. Мы можем выделить два противоположных типа. В соответствии с моделью «американизации», государство укрепляет свои геополитические позиции. Соответственно, престиж доминирующей этнической группы высок и преобладает стремление к ассимиляции. В соответствии с моделью «балканизации», геополитическое развитие стремится к упадку: государство терпит крах, престиж доминирующей этнической группы невысок; направлением массовой мобилизации становится этнический сепаратизм, а не ассимиляция. В этом случае, доминирующая этническая группа становится не только непривлекательной, но и превращается в отрицательную точку соотнесения. Так, например, антиавстрийские и антитурецкие настроения стали важнейшим мобилизующим фактором для политических и социальных действий. Точно так же во время распада находившейся под контролем русских советской империи русская этническая идентичность стала отрицательной точкой соотнесения для нерусских. С начала 1800-х годов геополитическое влияние Соединенных Штатов усиливалось, и ко времени начала Первой мировой войны они стали крупнейшей мировой державой. С 1800 по 1960 год Соединенные Штаты — прекрасный пример ассимиляционной динамики расширения этнических границ («американизации») — занимали все большие территории Северной Америки, встречая минимальное противодействие на местах. С точки зрения размеров и экономических ресурсов, в конце XIX века Соединенные Штаты обладали огромным преимуществом в мире. В XX веке Соединенные Штаты смогли извлечь пользу из весьма затратных войн между крупными европейскими державами. После 1960-х годов Соединенные Штаты пережили определенный геополитический спад из-за дорогостоящей гонки вооружений («холодная война») с СССР, пограничным государством на противоположной стороне прежнего европейского поля битвы. Наличие таких густонаселенных врагов, как Корея и Вьетнам, вызвало дальнейшее напряжение сил, связанное с чрезмерным увеличением материально-технического потенциала. Этим объясняется высокий этнический престиж англо-американской культуры как цели для ассимиляции на протяжении полутора веков с некоторым падением престижа после 1960-х годов.
Возможно, я приписал модели «американизации» незаслуженные преимущества. Ведь Соединенные Штаты не только увеличили свое геополитическое влияние, но и приобрели территорию, богатую экономическими ресурсами, и, возможно, именно это богатство, а не престиж власти, привлекало многочисленных иммигрантов.
Может возникнуть соблазн уточнить теоретические принципы, прибавив следующее: и геополитический престиж, и экономические возможности повышают легитимность и престиж правящих элит и этнических группгеополитическая слабость и экономический упадок, наоборот, ослабляют престиж правящего этноса. Однако есть целый ряд причин, которые позволяют считать, что геополитика оказывает особое влияние на этнический престиж. Престиж англоязычной ассимиляции в Соединенных Штатах был высоким с начала XIX века до середины XX века. И если он с того времени ставился под сомнение, то связано это было не с экономическим спадом, а с геополитическими неудачами: прежде всего, вьетнамской войной (1963–1975), иранским/исламским вызовом (1979) и возникновением полицентрического мира. Таким образом, подтверждается мысль о том, что геополитический престиж — это вопрос направления развития, а не абсолютного положения; вопрос о том, что было сделано за последнее время, важнее абсолютного уровня геополитических ресурсов государства и его элиты.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРЕСТИЖ И БОРЬБА ЗА СРЕДСТВА КУЛЬТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В этом исследовании условий среднего уровня, влияющих на этнические границы, упускаются культурные средства передачи информации, такие, как образование и язык. Они оказывают важное влияние и на этническую ассимиляцию, и на этническую борьбу. Как и со всеми такими условиями среднего уровня, вопрос состоит в том, какое именно влияние они оказывают и когда?
Так, в одной (ориентированной на ассимиляцию) модели массовое образование создает общую культуру; средства передачи информации распространяют общий язык; расширение доступа к этим средствам передачи информации, в конечном итоге, устраняет все этнические анклавы, за исключением немногочисленных остаточных традиционалистов. В другой модели (сопротивление ассимиляции или этническая раздробленность) происходит обратное — распространение грамотности, газет, телевидения и прочего создает основу для мобилизации культурных сепаратистов; «модернизация» не способствует универсализму, а создает инструменты для укрепления партикуляризмов. В этом случае, образование так или иначе влечет за собой негативные последствия. Если государство пытается навязать культурную однородность через систему образования, то в результате имеет место недовольство со стороны ущемленных этнических групп. Здесь мы встречаем литовских, украинских и армянских националистов, пытающихся сохранить свою культуру в условиях навязанной русскими системы образования и готовых громко заявить о себе при первой же возможности. С другой стороны, если государство разрешает культурную плюрализацию (как все больше и больше поступали советские реформаторы в 1980-х годах), оно само предоставляет своим противникам оружие групповой мобилизации (Waller 1992).
Ключом к этому сценарию служит не структура системы образования (или средств передачи информации), а геополитические условия, которые создают общий этнический престиж. Единообразная в культурном отношении система образования и навязанная языковая монополия на средства распространения потерпит неудачу, если престиж господствующей этнической группы будет низким. По крайней мере, так будет обстоять дело тогда (очевидно, в течение жизни нескольких поколений при современных условиях), когда слабость государства, в конечном итоге, приведет к разрушению центрального правления. Нет необходимости особенно останавливаться на описании нынешнего живого и сильного культурного сепаратизма, который имеет прочную основу и с нетерпением ждет того времени, когда он сможет выйти наружу. Бунтарские этнические национализмы в значительной степени сконструированы, а внезапные перемены в политических веяниях могут приводить к увлечению этнической культурой сепаратизма, носителями которой в течение длительного времени были только твердолобые консерваторы. Процесс «балканизации» может быть длительным и неспешным, а ослабление государственного контроля может затянуться на многие десятилетия или столетия; в данном случае (на Балканах в XIX и начале XX века) открытое культурное сопротивление и мобилизация не исчезали ни на секунду. Или «балканизация» может начаться довольно быстро, как при ослаблении центрального правления в СССР с середины 1980-х годов; в этом случае, какой бы курс культурной политики не был избран правителями, он все равно будет способствовать сопротивлению.
С другой стороны, культурная гегемония по модели «американизации» может обходиться и без рыночных процессов. Несмотря на попытки некоторых англо-американцев открыто навязать свою культуру мигрантам в американских публичных школах конца XIX — начала XX века, определяющим фактором в проведении языковой и образовательной ассимиляции, по-видимому, служил престиж англо-американской культуры. Государственный контроль над образованием отсутствовал, и многие решительные шаги предпринимались именно на местах. Существовали различные формы образования: огромная католическая школьная система, преподаванием в которой в основном занимались не англо-американцы; множество религиозных колледжей; школы с преподаванием учебных предметов на иностранных языках, среди которых наиболее влиятельными были еврейские учебные заведения. Различные формы образования вскоре утратили свое своеобразие и начали подражать модели, которая обладала высоким престижем: последовательности классов в традиционных англо-американских протестантских колледжах (Jencks and Riesman 1968). Не то чтобы многоэтническое соперничество в Соединенных Штатах никак не сказалось на образовательном рынке, но его влияние привело к усилению соперничества за признание аттестатов и беспрецедентному по своим масштабам распространению образования на всех уровнях общества (Collins 1979). В результате была создана единая система оценки образования, позволившая избежать распада на отдельные этнические анклавы 22. Точно так же отдельные газеты на этнических языках и другие культурные средства массовой информации не получили распространения в Соединенных Штатах, не выдержав соперничества с англо-американской массовой культурой. Для этого не принималось никаких серьезных государственных ограничений; престиж англо-американской культуры попросту был недостижимым для этнических сепаратистов.
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ
Всегда ли геополитическое влияние в условиях современного проникновения государства приводит к возникновению этнонационализма? Если считать, что доминирующая этническая группа определяет национальную культуру, а все остальные протоэтнические общности или этнические общины переселенцев исчезают, то можно столкнуться с рядом трудных случаев. Что если недоминирующие этнические общности оказывают сопротивление и добиваются создания постоянного анклава или даже отдельного государства? Лучшим примером такой попытки плыть против геополитического течения служит Ирландия времен расцвета Британской империи. Что если доминирующая этническая общность не позволяет меньшинствам ассимилироваться? Таков трудный случай чернокожего населения Соединенных Штатов.
ИРЛАНДИЯ И ИМПЕРСКАЯ БРИТАНИЯ
Легитимность доминирующей этнической группы не означает, что другие этнические группы обязательно будут поглощены ей. Ее легитимность может определяться путем ее противопоставления культурно зависимой и культурно нелегитимной группе. Случай Ирландии показывает, что администрация побежденной территории может институционализировать структуры, которые превращают региональную протоэтническую общность в бунтарский этнонационализм. Английские правители XVI—XVII веков считали Ирландию землей колониальных плантаций сродни заморским колониям; «дикие ирландцы», по их мнению, почти не отличались от индейских племен Северной Америки (MacLeod 1967). Закрепление классового различия между колониальными англо-ирландскими правителями и коренными ирландцами в виде политического различия произошло после установления в английском государстве парламентского режима. В идеологическом отношении гражданская война в Англии способствовала разрыву связей с католической церковью и теми государствами, которые, как считалось, представляли угрозу для национального суверенитета. Правом голоса на выборах в парламент обладали только сторонники национальной англиканской церкви, а побежденные католики, считавшиеся верными подданными чужого короля, были его лишены.
После окончания гражданской войны Оливер Кромвель проводил в Ирландии необычайно жестокую военную политику; и во время брожения 1680-х годов, связанного с опасениями насчет восстановления монархией католицизма, Ирландия была основным источником пополнения армии сторонников католицизма. Престиж власти английского протестантского правящего класса превратил разделение между католиками и протестантами в Ирландии XVIII века в разделение между совершенно бесправным и политическим классом в классическом марксистском смысле слова.
Геополитика постоянно подчеркивала чужеродную, неанглийскую идентичность Ирландии. Ирландцы сознательно использовали католическую карту при создании дипломатических и военных союзов со времен испанской армады и вплоть до высадки представителей иезуитов и поддержки восстаний, католических легитимистов и претендентов на королевский трон со стороны Франции в XVII—XVIII веках. Обеспокоенность тем, что у нее за спиной может появиться союзница континентальных держав, только усиливала осознание Англией особого положения Ирландии. И ирландский национализм был тесно связан с возможностью получения поддержки со стороны врагов Англии. Во время революционной войны в Америке ирландцы душой были на стороне американцев, а англичане содержали огромные войска, опасаясь, что французы совершат вторжение в Ирландию. Во время Великой французской революции 1790-х годов ирландские мятежники нашли убежище во Франции, а французские военные экспедиции высаживались в Ирландии (Foster 1989: 152). Во время Первой мировой войны ирландские националисты пытались ввозить оружие из Германии. В XIX — начале XX века ирландские иммигранты или временные переселенцы в Соединенных Штатах (которые, конечно, участвовали в нескольких войнах против Англии) стали основной базой поддержки ирландских повстанцев, а также противовесом культурной тенденции к ассимиляции в Англии.
С начала XIX века ирландский этнонационализм приобретал все более четкие очертания; он возник в результате проникновения государства, которое создало средства для мобилизации разного рода социальных движений, направленных против английского государства в Англии и Ирландии. В 1820-х годах Ирландия стала местом проведения массовых митингов, шествий и символической агитации; то, что они происходили главным образом в сельскохозяйственных районах и захолустных местечках, показывает — даже ярче, чем сопоставимые движения в Англии, — что мобилизация была вызвана не столько распространением промышленности, сколько проникновением государства. Политические баталии за расширение гражданских прав, происходившие в Англии на всем протяжении столетия, должно быть, вызывали у ирландских иммигрантов, которые составляли значительную часть промышленных рабочих в Англии, но были лишены права голоса, еще более острое чувство отчуждения. Особый статус колониального владычества в Ирландии сохранился и после ряда парламентских реформ, связанных с расширением гражданских прав; либерализация вообще коснулась ирландцев меньше, чем англичан, потому что ирландские католики считались нелегитимными вдвойне, так они были подданными колонии и народом, нелояльным парламентскому режиму. «Ирландский вопрос» стал яблоком раздора в английской политике, так как гуманитарные проблемы, связанные с сельским голодом 1840-х годов, сочетались с вопросами прав собственности и предоставления гражданских прав. Малоимущие фермеры-арендаторы, наиболее заметный слой ирландского населения, при каждом неурожае изгонялись со своих земель англо-ирландскими (и другими) землевладельцами, которые превращали землю в более рентабельные пастбища. Несмотря на то, что в класс землевладельцев входило все больше местных ирландских католиков, в середине века историческое закрепление классового деления в этнорелигиозных идентичностях все сильнее определяло общественное сознание, а вражда перерастала в забастовки арендаторов и убийства.
Проводимые английской элитой политические реформы вместо ослабления ирландского недовольства лишь еще больше усугубляли противоречия. В 1800 году ирландская палата общин, символ колониального режима, была упразднена. Широкое распространение получили опасения, связанные с нелояльностью ирландцев во время войны с революционной Францией, в сочетании с уступками в том, что сами англичане все чаще считали явной дискриминацией католиков. Английское государство оказалось в положении, когда любые действия с его стороны встречались с недовольством. Каждый шаг неизбежно вызывал трехстороннее противоборство (Foster 1989: 148–211). Первой фракцией была землевладельческая элита, состоявшая из англичан-протестантов и выступавшая против земельной и других реформ; однако со временем ее влияние ослабло. В состав второй фракции входили католическое крестьянство и все более растущий средний класс, который постепенно получил гражданские права и, в конечном итоге, стал преобладать в парламентском представительстве. Во время переходного периода расширения гражданских прав Ирландию в парламенте представляло, как правило, протестантское мелкопоместное дворянство, которое завоевывало популярность и голоса, отстаивая интересы католических избирателей. Поэтому классовые и религиозные конфликты становились уже проблемами национального суверенитета Ирландии 23. Поскольку ирландская этническая идентичность стала более притягательной, нежели британский этнонационализм, часть англо-ирландской элиты перешла на позиции ирландского этнонационализма. Ирландская элита теперь могла выбирать свою идентичность; сегрегация и дискриминация ирландского народа создали неассимилируемую идентичность, с которой могла связать себя ирландская элита. Расширение политических возможностей на английской государственной арене в сочетании с ощущением ирландской особости происходило по мере того, как ирландские члены парламента приобретали известность благодаря своей непокорности, а также успешному созданию коалиций с английскими партиями.
Третья фракция состояла из ирландских протестантов, принадлежавших к диссидентским сектам, которым изначально было запрещено заниматься политической деятельностью в англиканском парламенте. Эти ирландские протестанты были сосредоточены преимущественно в Северной Ирландии и представляли все более преуспевающий промышленный деловой класс. Протестантский рабочий класс в этой зоне страдал от безработицы и других экономических неурядиц; классовая мобилизация подменялась у рабочих узкой и исключающей тактикой, связанной с этнорелигиозной принадлежностью. Ирландские протестанты (которых я называю так, чтобы противопоставить их англиканским английским протестантам) выражали все большее недовольство уступками католикам со стороны англичан. Воинственность ирландской протестантской оппозиции нарастала по мере того, как английские политики из сочувствия или из-за усталости от борьбы все более склонялись к решению ирландской проблемы путем предоставления Ирландии гомруля с католическим большинством. Народное противостояние между ирландскими протестантами и католиками переросло в военную мобилизацию обеих сторон и достигло своего пика в 1913–1914 годах перед началом Первой мировой войны. В результате, все чаще речь велась уже не об ограниченной форме местного самоуправления при контроле над финансовой и внешней политикой со стороны Британии, которая некогда была пределом мечтаний, а о полной национальной автономии.
Перелом совпал по времени с геополитическими противоречиями, возникшими внутри огромной Британской империи. Геополитическая сила оценивается не только по размерам территориальных владений, но и по материальным затратам на оборону территории. Финансовые затраты на бурскую войну, ставшие предметом острого обсуждения в парламенте, сделали очевидным основное противоречие империи. Ирландцы сочувствовали бурам, а британские военные трудности способствовали осознанию того, что слишком большие размеры Британской империи создавали возможность для получения независимости. Ирландцы развернули свою борьбу за независимость в 1916 году, сознательно извлекая выгоду из британских обязательств в Первой мировой войне. Хотя первоначально большинство населения Ирландии придерживалось умеренных взглядов в вопросе о гомруле (и в состав британской армии в Европе действительно входило множество ирландских добровольцев), восстание радикальной националистической фракции привело к поляризации. В обстановке военного времени британские власти считали предателями не только мятежников, но и умеренных ирландских националистов; в результате, ирландское общественное мнение резко склонилось на антибританскую сторону. Схожий сценарий имел место во время партизанской войны 1919–1921 годов, пока бесконечная жесткость обеих сторон в конечном итоге не привела к изнеможению и завоеванию Ирландией независимости в 1922 году (Foster 1989: 196–209). Сохранить свое военное превосходство Британии помешали общая усталость, вызванная огромными расходами на ведение мировой войны, и обращение ирландских националистов за международной поддержкой. В частности, Соединенные Штаты, будучи восходящим военным гегемоном, способствовали разрушению империй не только побежденных великих держав, но и самих британцев. С точки зрения истории большой длительности, ирландскому национализму способствовали его геополитические связи с врагами своих английских завоевателей и его окончательное созревание в тот момент, когда англичане оказались в сложной геополитической ситуации.
БЕЛОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ АССИМИЛЯЦИИ ЧЕРНОКОЖИХ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ
На аналитическом уровне существует поразительное сходство между неассимируемостью ирландцев в Англии и чернокожих афроамериканцев в Соединенных Штатах. И те, и другие начинали, будучи порабощенным населением колониальных плантаторских режимов, где политическими правами обладала только легитимная этнонациональная группа. В Ирландии колониальная иерархия структурно обозначалась и закреплялась именно католицизмом; в Соединенных Штатах такую задачу выполнял цвет кожи. На Юге принимались законы о смешанных браках, которые обретали свое институциональное воплощение в обычае отнесения всех людей смешанного происхождения к черным. Иногда американские межрасовые отношения описываются как кастовая система, но аналогия с Индией не вполне обоснованна. Индийские касты входили в четко проработанную иерархию, которая, к тому же, со временем становилась все шире; в Соединенных Штатах наиболее важное значение имело разделение между черными и белыми. Индийские касты создавались путем подражания ритуальной чистоте брахманов, которая была своеобразным Lingua Franca высокого социального статуса в обществе, где государства были слабыми, а правовое регулирование основывалось на расширении отношений родства (Collins 2002: 238–242); американский черно-белый расизм был создан государством и до 1960-х годов законодательно закреплен во многих местах.
Более сильной оказывается аналогия между ирландскими католиками в британском государстве и черными в юридически сегрегированных Соединенных Штатах. Многие чернокожие американцы переселялись из южных штатов с законодательно закрепленной сегрегацией на промышленный Север, где их положение почти не отличалось от положения ирландских рабочих в Англии. В обоих случаях культурное обособление усиливалось классовыми различиями; в обоих случаях институциональное выражение в виде государственного закона способствовало сохранению заметного этнического своеобразия. Даже те, кто проживали вне зон откровенной государственной дискриминации (черные американцы на Севере; англо-ирландская элита в Ирландии и ирландские рабочие в Англии), опознавались обществом по своей этнической принадлежности. Существует множество параллелей в том, как происходила мобилизация этнического недовольства в обеих странах. Восстание ирландских националистов в 1916 году, в самом разгаре Первой мировой войны, было более воинственной разновидностью первого национального политического действия, предпринятого американскими чернокожими, — предупредительной забастовки чернокожих пульмановских грузчиков во время Второй мировой войны, которая заставила правительство отказаться от политики сегрегации в армии. Британским геополитическим противоречиям, приведшим к независимости Ирландии, соответствовала мобилизация движения за гражданские права для чернокожих после американских геополитических трудностей во время корейской и вьетнамской войн. Борьбе трех фракций в Ирландии соответствовали противоречия на американском Юге после отмены рабства: будучи подчиненными сельскими классами, ирландские католики и чернокожие на Юге были одновременно объектами притеснения и сочувствия посторонних наблюдателей. В обоих случаях существовала элита консервативных плантаторов, причем в нее также входила фракция «белых либералов», которая оказывала поддержку делу угнетенных. И в Ирландии, и в Соединенных Штатах низы среднего класса и рабочие (ирландские протестанты, соответствовавшие среднему и низшему классам белых южан) становились наиболее воинственными противниками равенства и десегрегации.
Основное различие между ирландцами в Англии и чернокожим населением в Соединенных Штатах обусловлено геополитическим контекстом. Ирландия всегда была для Британии территорией, которая мешала сохранять политику равновесия сил с соседями на континенте. В Соединенных Штатах чернокожее население было неразрывно связано с землей, на которой оно проживало. Даже распад на отдельные штаты не так давно созданного Союза во время Гражданской войны не представлял серьезной угрозы этой связи, хотя в случае победы конфедерации в этой войне такая угроза могла бы возникнуть. Чернокожие южане были тайными сторонниками унионистов, и именно их белые хозяева-южане на протяжении двух-трех поколений после завершения Гражданской войны взращивали особую идентичность, основанную на воспоминаниях о войне. Рост геополитического престижа власти федеративных Соединенных Штатов Америки на мировой арене в XX веке стал очень притягательным для национальной идентификации после побед в испано-американской и Первой мировой войнах и достиг своей вершины во всеобщей военной мобилизации времен Второй мировой войны. Именно в контексте этой и последующих — корейской и вьетнамской — войн Соединенных Штатов, ставших мировым гегемоном, произошли мобилизация движения за интеграцию чернокожих и разрушение законодательно закрепленной государством правовой дискриминации. В конечном счете, целью движения, которая приветствовалась и поддерживалась белыми элитами, тесно связанными с включающим этнонационализмом успешного американского государства в XX веке, была в то время ассимиляция. Именно благодаря этому обстоятельству в 1960-х годах сложилось ощущение того, что настало время идеи расовой интеграции.
Согласно прогнозу геополитической гипотезы, престиж американской глобальной власти привел к возникновению американского этнонационализма. Геополитическая теория не в состоянии до конца объяснить причину белого сопротивления ассимиляции чернокожих. Здесь мы могли бы вспомнить множество хорошо изученных процессов, связанных с воспроизводством этнической стратификации. Мне нечего к ним добавить, кроме геополитического контекста, в котором такое сопротивление ассимиляции перестало быть легитимным. Мировые войны и особенно резкое превращение Соединенных Штатов в середине столетия в престижную мировую державу сделали американскую интеграцию привлекательной идеей для всех этнических групп 24. Этим же было вызвано и геополитическое перенапряжение, которое проявилось, прежде всего, в позорном поражении во вьетнамской войне. Черное движение в Соединенных Штатах содержало в себе одновременно элементы освободительного этнонационализма и сепаратизма. Этнонационализм возник благодаря стремительному взлету престижа американской власти, обеспечившему движению за интеграцию чернокожих институциональную поддержку со стороны средств массовой информации и дискурса государственных чиновников, а также горячую моральную поддержку со стороны космополитических социальных слоев белого населения 25. Ряд геополитических неудач привел к ослаблению легитимности доминирующей этнической группы, что, в свою очередь, способствовало черному национализму и сепаратизму. Поражение Соединенных Штатов во вьетнамской войне было сравнимо с распадом европейских колониальных империй вследствие противоречий Второй мировой войны. В обоих случаях этнонационализм прежде непобедимых государств был поколеблен. Клонящиеся к упадку государства сталкиваются с моральным вызовом легитимности своего правления, который ведет к утрате самоуверенности у элиты, смешанному чувству унижения и вины. Именно такая атмосфера способствовала возникновению бунтарского национализма неассимилируемого и угнетенного населения.
В Соединенных Штатах бунтарскому этнонационализму не удалось зайти слишком далеко, потому что геополитическое влияние государства все еще сравнительно велико. С крахом СССР в 1990-х годах геополитическое положение Соединенных Штатов вновь укрепилось. Несмотря на всю риторику, сохранившуюся со времен потрясений 1960–1970-х годов, проявления воинственности со стороны чернокожих, латиноамериканцев и азиатов приняли форму борьбы за содержание программ образования в городских общинах и относительно второстепенных проблем уважения к культурным символам, а не требований о передаче даже частичной территориальной власти под автономное этническое управление. Престиж государственной власти по-прежнему высок и можно ожидать, что престиж этнонационализма будет оставаться высоким до тех пор, пока геополитическая ситуация будет оставаться неизменной. В этом случае, основной тенденцией в долгосрочной перспективе оказывается тенденция к ассимиляции. В настоящее время, простое культурное преобладание белой англо-американской культуры и соматотипа перестало быть главной целью. Давление в пользу ассимиляции европейских этнических общностей, которое достигло своего пика в «Новом курсе» и мобилизации времен Второй мировой войны, привело к созданию гибридной культуры (которую вполне можно назвать «американской креольской») к середине XX столетия. Гибридный характер этой культуры, несомненно, будет и дальше меняться с включением в нее азиатских и латиноамериканских элементов. Во многих отношениях черная американская культура уже наложило свой отпечаток на американскую национальную культуру. Сохраняющиеся различия в значительной степени касаются вопросов классовой культуры и одного отличительного признака: цвета кожи. Здесь геополитическая гипотеза говорит об оптимистичном будущем для сторонников ассимиляции и о пессимистичном для сепаратистов.
Ключом к приданию расового характера континууму этнических различий служит культурное определение потомков смешанных пар как принадлежащих исключительно к нелегитимной категории. На рубеже XXI века, по-видимому, происходит распад такого культурного определения, так как на всем протяжении 1990-х годов наблюдался рост признания категории смешанной расы. Последствия такого изменения категориальных границ могут оказаться весьма серьезными. В отсутствии дальнейшего выделения степеней расовой чистоты, наподобие тех, что существовали в Бразилии и других странах, исчезновение жесткого различия между черными и белыми может привести к тому, что эта категория перестанет служить отличительным признаком. Мы можем наблюдать начало исчезновения расовой дихотомии в Америке, хотя ассимиляции всех групп населения еще очень долго может не произойти. Особая черная расовая идентичность вполне может сохраниться, закрепившись в многочисленном черном низшем классе, сегрегированном вследствие переплетающейся между собой классовой и расовой враждебности и легитимированном криминализацией. Существование культурно обособленного и гиперсегрегированного черного люмпенизированного слоя делает черную кожу общепринятой точкой отнесения и позволяет применять эту категорию даже по отношению к тем чернокожим, которые принадлежат к более высоким социальным классам. Преодоление этой расовой дихотомии служит основным условием для превращения аморфной категории смешанной расы в нерасовую американскую этнонациональную идентичность. Категория смешанной расы возникает не в результате заключения межрасовых браков между черными и белыми, как предполагают сценарии возникающих в этой связи классических надежд и опасений. Напротив, она возникает вследствие размывания расовых идентичностей азиатов, латиноамериканцев, американских индейцев и других в межрасовой категории, а также последующего вливания в нее представителей белых европейцев, американцев и негров. Вполне возможно, что в обозримом будущем смешения черных и белых не произойдет, но они могут войти в состав более крупной, культурно доминирующей категории.
Если высокий геополитический престиж власти повышает престиж единой этнонациональной идентичности, а полная мобилизация всего народа в вооруженные силы обеспечивает такую идентификацию эмоциональной энергией 26, то можно ожидать, что в последующих поколениях в Соединенных Штатах, играющих роль мирового гегемона, будет наблюдаться разложение культурного определения расы. Выдающееся геополитическое положение Соединенных Штатов Америки привлекает иммигрантов со всего мира, что способствует развитию тенденции к возникновению межрасовой идентичности, в которой происходит слияние множества народов мира. В этом контексте классовое различие черных и белых вполне может сохраниться, но оно все меньше будет связано с американской этнонациональной идентичностью. Смешанная азиатско-европейско-латиноамериканская идентичность стала бы категорией, в которой растворились бы все остальные. Однако все зависит от того, как долго продлится геополитическое господство Соединенных Штатов.
БУДУЩЕЕ ЭТНИЧНОСТИ
По всей вероятности, возникновение и распад этнических границ будет происходить на всем протяжении последующей истории человечества 27 в зависимости от направления геополитического развития, которые можно проиллюстрировать несколькими непосредственными возможностями. Крупнейшей геополитической переменой на рубеже XXI века стало потенциальное появление на мировой арене двух крупных и сильных государств — Европейского Союза и Китая. Можно ожидать, что они создадут экспансивное и по-новому определяемое этнонациональное сознание. Уже в 1980-х годах наблюдалась попытка определения панкитайской культурной орбиты в виде конфуцианской культурной традиции, основным глашатаем которой был сингапурский политик Ли Куан Ю. Ее цель заключается в том, чтобы преодолеть ныне дискредитированную в геополитическом отношении идеологию коммунизма и сделать Китай центром этнонациональной лояльности, схожей с панславизмом или пангерманизмом времен расширения сфер влияния России и Германии. Как далеко зайдет эта идеология, зависит от геополитических переменных, которые могут привести Китай как к военным конфликтам и противоречиям, так и к установлению прямого или косвенного контроля над регионом.
Европейский Союз (ЕС), построенный в виде федерации, превосходящей национальные государства, транснационален с идеологической точки зрения. В то же самое время институциональные механизмы и культурные сети ЕС, несомненно, будут способствовать созданию европейской культурной идентичности. Насколько же далеко он продвинется в направлении европейского этнонационализма, будет зависеть от престижа власти ЕС на мировой арене. В настоящее время федерация испытывает сомнения насчет мобилизации своей военной силы. Если бы этот шаг был совершен, она, вероятно, оказала бы огромное влияние на своих непосредственных соседей. Отсутствие власти в Центральной и Юго-Восточной Европе — даже без сколько-нибудь существенного применения военной силы — способствует распространению на этот регион влияния ЕС. В этом отношении его главными геополитическими соперниками служат Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций, хотя последняя кажется слишком неразвитой, чтобы породить этнонационалистический универсализм 28.
В заключение, рассмотрим, какой свет геополитическая теория проливает на указанные явления. Кажущийся парадокс заключается в том, что мобилизация региональных этнонационализмов в старых европейских национальных государствах произошла в тот момент, когда ЕС стал общим «зонтиком»: каталонский национализм в Испании, шотландский и валлийский национализмы в Англии, ломбардский национализм в Италии и так далее. Нет ли здесь противоречия? На мой взгляд, они возникли в соответствии с правилами геополитики. ЕС получил свои полномочия от вошедших в его состав государств, прежде всего, в автономии военного действия. Поскольку волнующий опыт военного участия служит наиболее сильным источником властного престижа, утрата независимых вооруженных сил в определенной степени лишает государства своей легитимности, а также лишает легитимности и их этнонациональные идентичности. Возникновение в такой обстановке региональных национализмов произошло в полном соответствии с правилом о том, что утрата геополитического престижа государственной власти способствует этническому брожению. Слабость этого брожения связана с тем, что национальные государства не были сломлены силой, ведущей к дроблению территории; вместо этого монополия на такую силу перешла к ЕС. Движения за региональную автономию не пытаются восстановить свою монополию на силу, а стремятся действовать в качестве недогосударств под силовым «зонтиком», организованным на более высоком уровне. И теперь такая региональная реструктуризация, отменяющая тенденцию к росту этнонационализмов — она возникла тогда, когда государства стали усиливать свою власть в начале XX века, — вследствие вытеснения в Европе геополитической власти с уровня национального государства, возможна. Такие региональные движения могут быть явлениями переходного периода, когда старые национальные государства уже утратили свою легитимность, а европейское государство еще не заявило о себе в полную силу.
В геополитической теории в грубом и не особенно приятном виде описываются условия, при которых ЕС может стать эмоционально притягательным для новой европейской национальной лояльности, превратившись в основание для общеевропейской этнической общности: ЕС может стать полноценным государством в веберовском смысле этого слова, мобилизуя свое население через коллективный военный опыт. Конечно, возможно, этого не произойдет никогда. Европейская неприязнь к милитаризму в конце XX века может тесно сплестись с существующей этнической фрагментацией и не допустить укрепления коллективных настроений, необходимого для использования европейских вооруженных сил. Принимая во внимание давние традиции использования силы государством и относительную сиюминутность политических настроений, особенно тех, что связаны с реакцией на прошлое, европейский пацифизм вряд ли надолго сохранит господствующие позиции. Но пока он существует, геополитическая теория выводит структурное следствие: ЕС не станет объектом эмоционально необоримой лояльности, хотя он может превратиться в удобную систему культурных и экономических связей.
Геополитическая теория этнонационализма также предлагает объяснение ужасного этнического насилия на развалинах бывшей Югославии. Однажды цельное государство распалось на части и пережило стремительный рост крайних проявлений этнического национализма. Своеобразие идентичности Югославии заключалось в том, что она была буферным государством, промежуточной зоной между двумя блоками — коммунистическим и антикоммунистическим. Распад советской империи и утрата коммунизмом своей идеологической легитимности лишили Югославию идентичности и геополитической значимости. Престиж власти этого небольшого государства на мировой арене было обусловлен посредническим положением, которое обеспечивало наличие престижа независимо от имеющихся у него ресурсов, облегчая взаимодействие между силовыми блоками. Во время «холодной войны» Югославия была типичным нейтральным государством, стоявшим во главе нейтрального блока. У Югославии не было никакого иного легитимирующего ресурса, кроме этой ниши, которую она утратила с крушением советского блока. Неясность того, на что могла опираться новая государственная власть, вызвала местную гонку вооружений и зверства, которые быстро пробудили в пребывавших в латентном состоянии этнических идентичностях исконную (primordial) вражду 29.
В этих обстоятельствах геополитическая теория предлагает собственный прогноз. Ключ к завершению этнической борьбы состоит в восстановлении престижа государственной власти — не обязательно югославского государства, которое полностью утратило свою легитимность, а любого другого действенного государства. Наиболее очевидным решением для ЕС была бы попытка поглощения того, что осталось от бывшей Югославии. В то же самое время ЕС не следовало бы действовать подобно сильному государству, которое не терпит никаких возражений против своей монополии на легитимное насилие на своей территории. ЕС вполне способен разоружить бывшую Югославию, но только в случае создания первичную эмоциональную привязанность к себе. Сербы, боснийцы, хорваты и другие могли бы вновь стать мирными гражданами, которые ничем не отличались бы от рядовых граждан любых других сильных современных государств. О вероятности такого развития событий здесь речи не идет. Поскольку ЕС совершает очень медленные и осторожные шаги по трансформации в полноценное государство, вряд ли в ближайшем будущем будет принято такое решение.
На рубеже XXI века на Западе, в том числе в Европе и Соединенных Штатах, широкое распространение получил мультикультурализм, который характеризуется враждебностью к этнонационализму на государственном уровне и симпатией к закреплению этнического в особых нишах внутри государства. Что же такое мультикультурализм? Простое колебание маятника истории, кажущееся столь значительным лишь по близорукости настоящего, или долгосрочное структурное изменение? Ответить на этот вопрос можно только на основе строгой макроисторической теории большой длительности, которая начала складываться только теперь. Однако я изложу свою оценку.
Геополитическое ядро государства никогда не исчезнет, но геополитические ситуации могут быть самыми различными. Структурная ситуация 1990-х годов напоминает равновесие сил, не столько сильной военной мобилизацией полудюжины великих держав, сознательно действующих ради сохранения союзов, сколько несовершенством взаимосвязей международных сетей. Торговля, миграция, офшорное производство и финансовые спекуляции, а также огромное множество международных организаций, не обязательно делают невозможными для государств военные действия — они обошлись бы дорого, но войны всегда стоили дорого, а их экономическая неразумность никогда не была серьезным препятствием ввиду их эмоциональной привлекательности. Сегодняшние транснациональные сети способствуют созданию космополитической элиты, которая мало чем отличается от дипломатов, наемников и экспортеров культуры, часто встречавшихся в Европе в эпоху Просвещения. Космополитизм идет нога в ногу с геополитикой равновесия сил и считает все местное и особенное реакционным и менее нравственным. Язык мультикультурализма, на мой взгляд, служит сегодня таким же Lingua Franca, каким был французский язык эпохи Просвещения. По иронии судьбы новый Lingua Franca многослоен, поскольку мультикультурализм (или «политическая корректность») презирает этнический национализм (при условии, что презирается собственный национализм), превознося при этом примордиалистские идеологии заново освобожденных этнических общностей. Так как все этнические общности сконструированы и ни одна из них не является примордиальной, здесь присутствует непоследовательность. Таково понятие терпимости, которое включает терпимость к нетерпимости или, точнее, терпимость к некой привилегированной нетерпимости. Но в основе этих концепций лежит более глубокая макроисторическая логика. Этническими партикуляризмами, утратившими свою легитимность, оказываются партикуляризмы национального государства, а поощряемыми — те, что никогда не поднимались на уровень привилегированной национальной этнической группы. Обычно как только угнетенное или иначе униженное этническое движение близко подбирается к государственной власти или мобилизует оружие, которое делает государственную власть досягаемой, оно точно так же начинает посягать на этнических чужаков, как и любой другой этнонационализм. Lingua Franca мультикультурализма питает романтизм, который мало чем отличается от просвещенческого идеала благородного дикаря или естественного состояния. Он идеализирует негосударственные этнические общности, пытаясь не замечать государственные формы, которые делают этнические общности возможными и которые неизбежно притягивают их к государству. Чтобы быть действенным в социальном отношении, Lingua Franca не должен проговаривать смысл; он должен оставаться общей средой коммуникации. И он структурно соответствует той ситуации равновесия сил, которая преобладает в настоящий момент мировой истории, по крайней мере, в западных обществах.
http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2007/2701

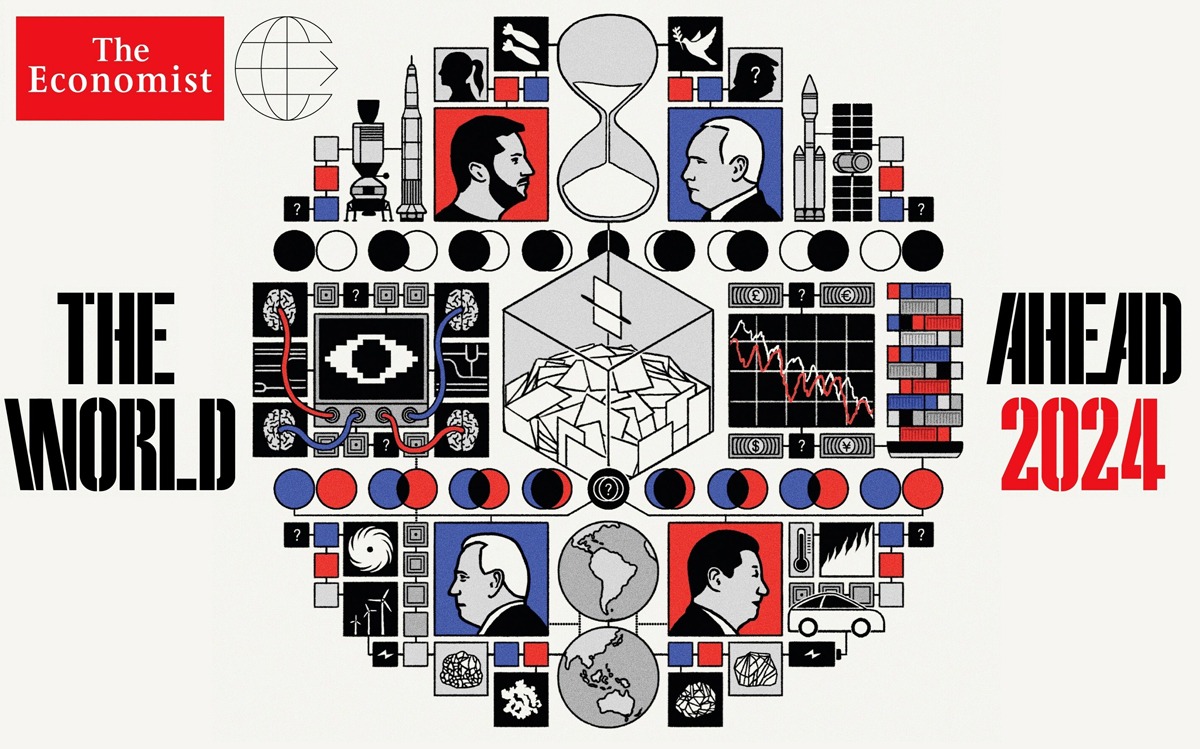


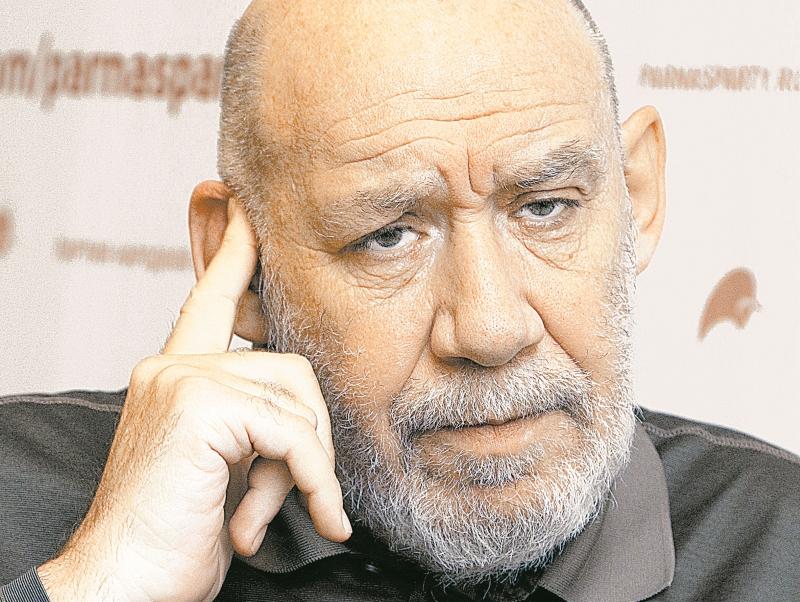






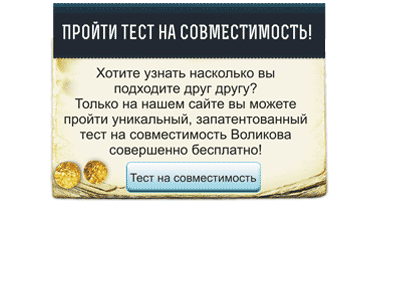
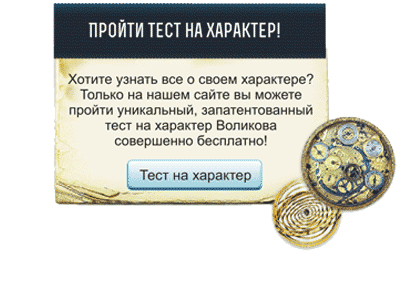
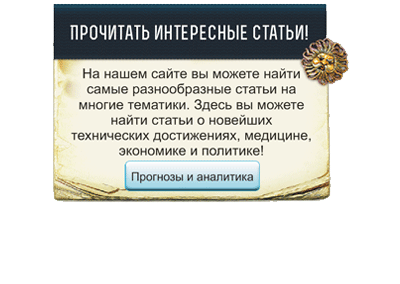




Комментарии (0)